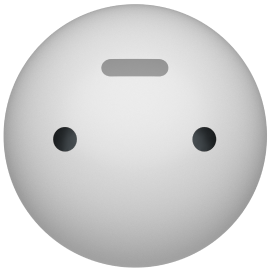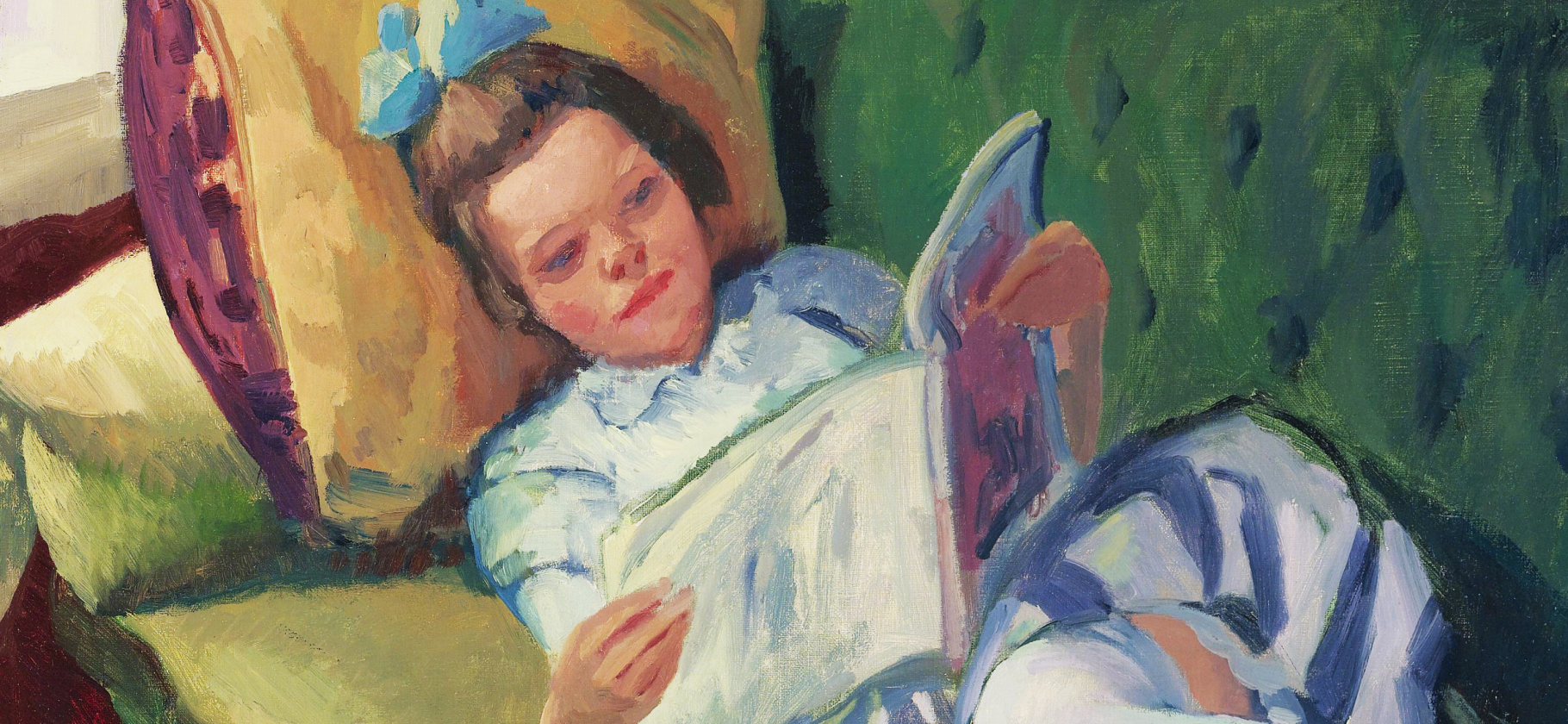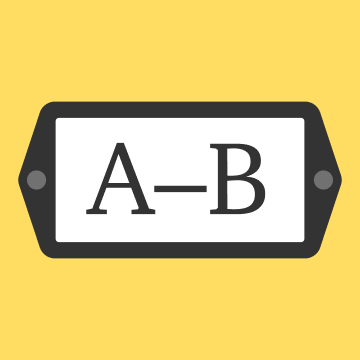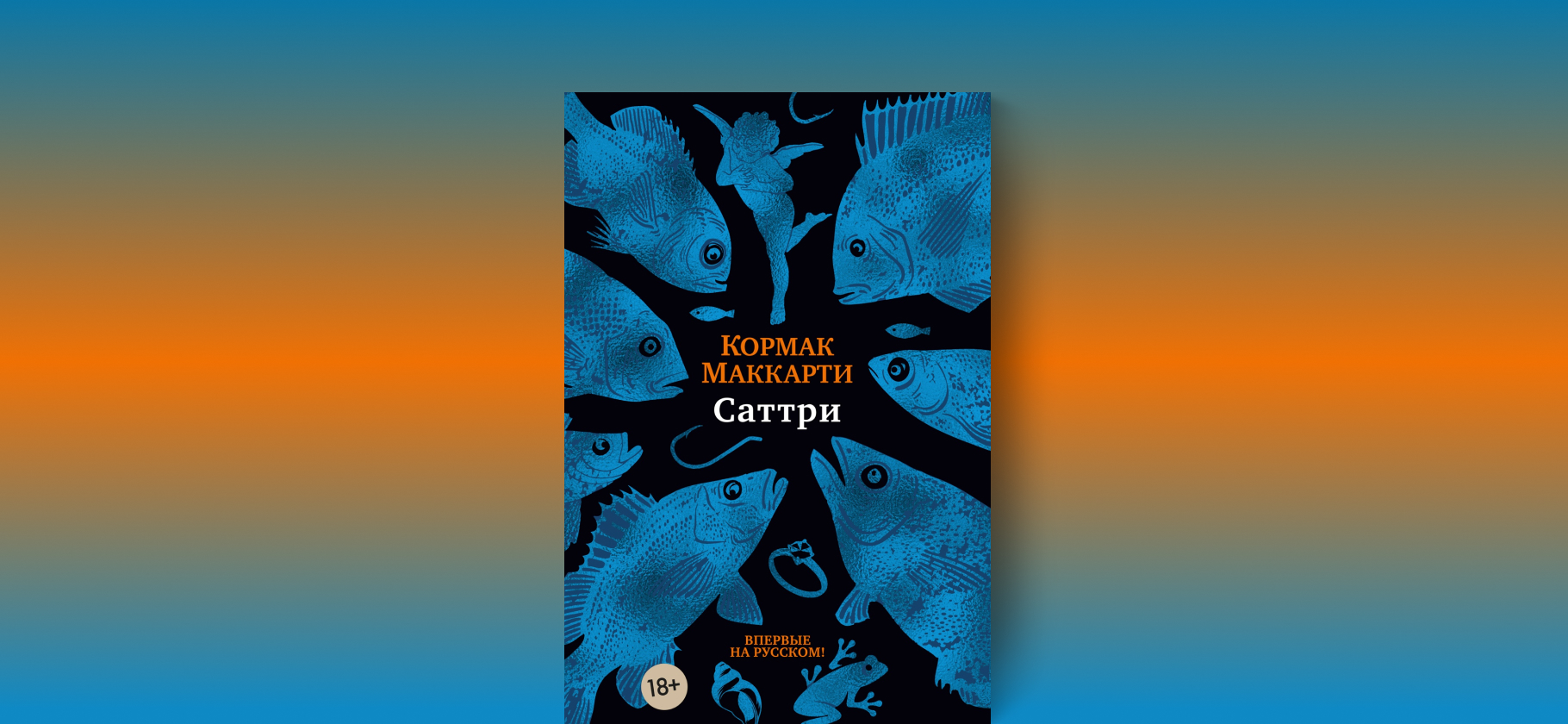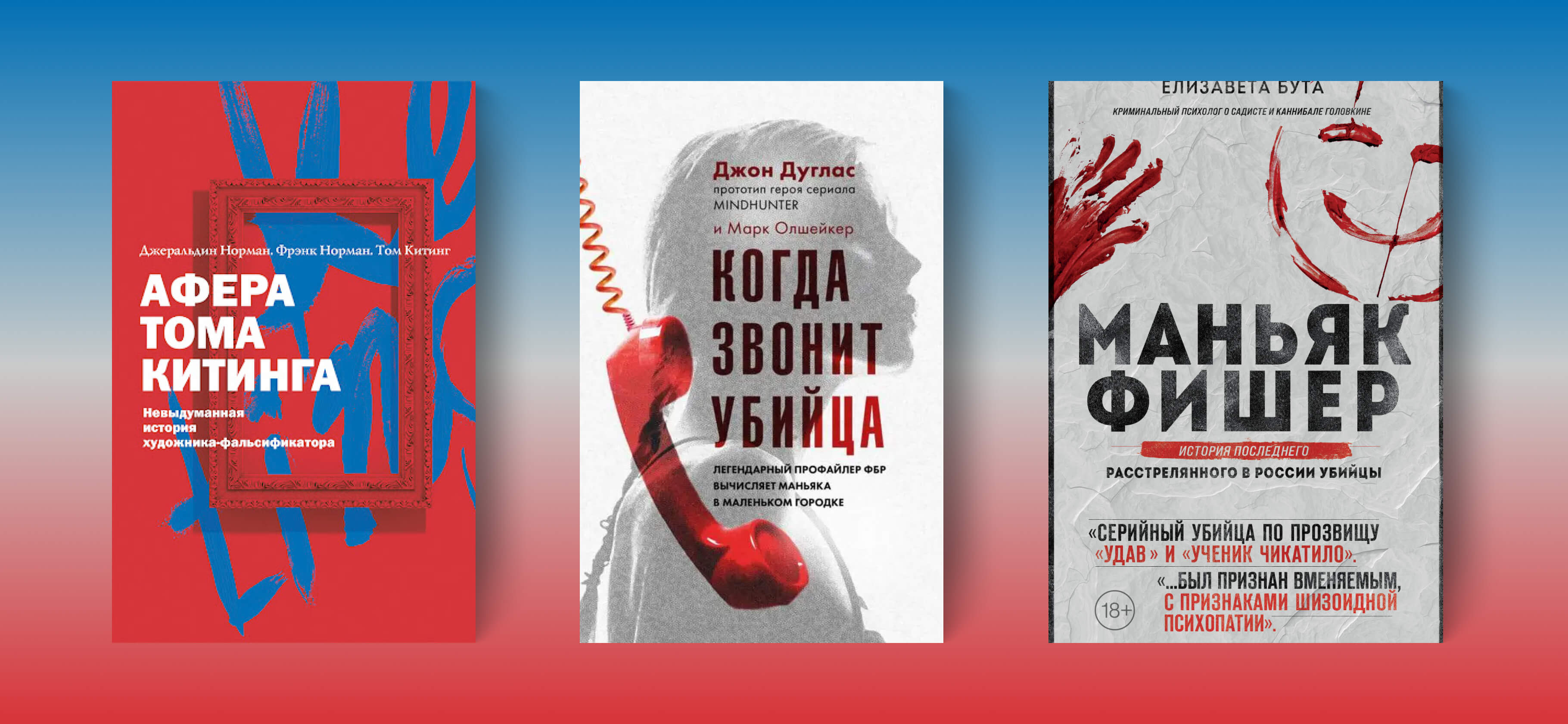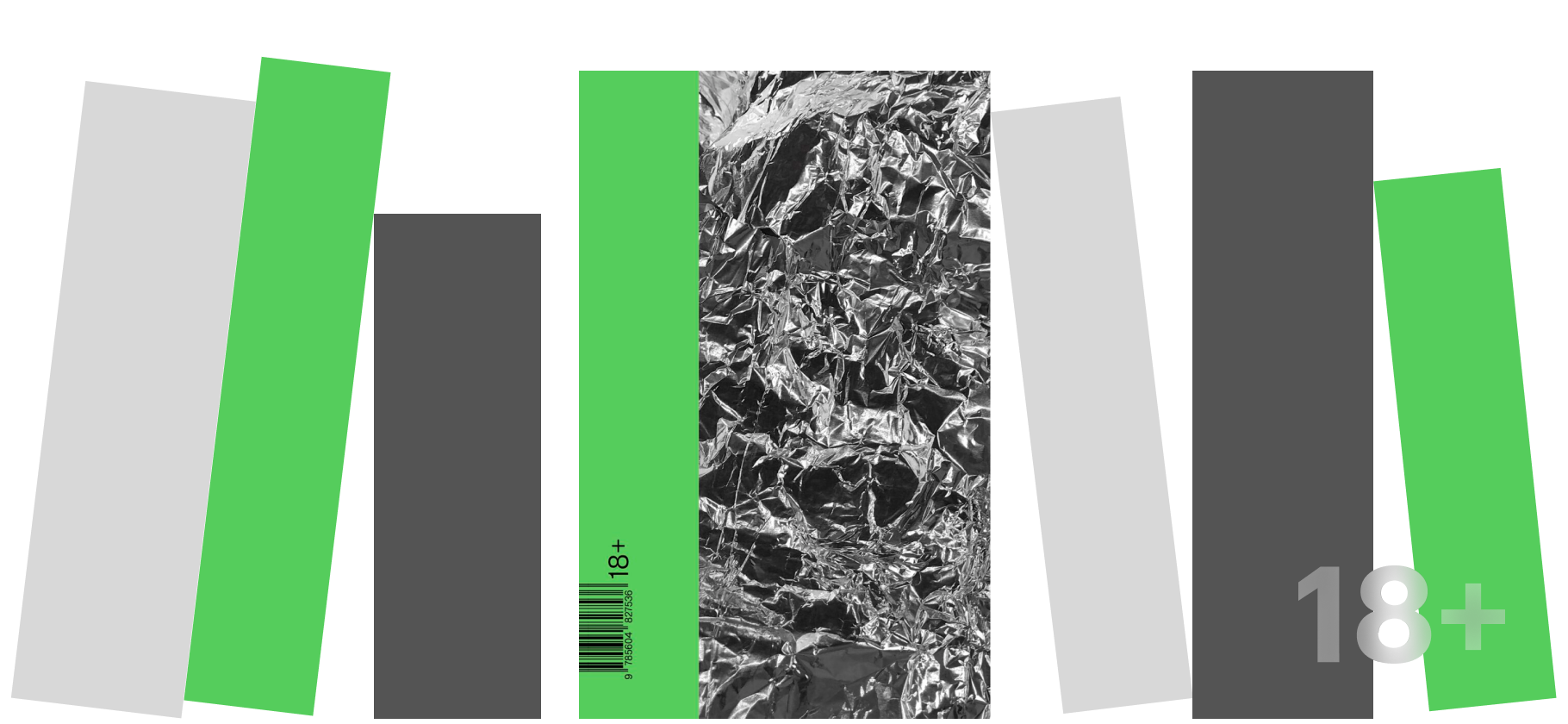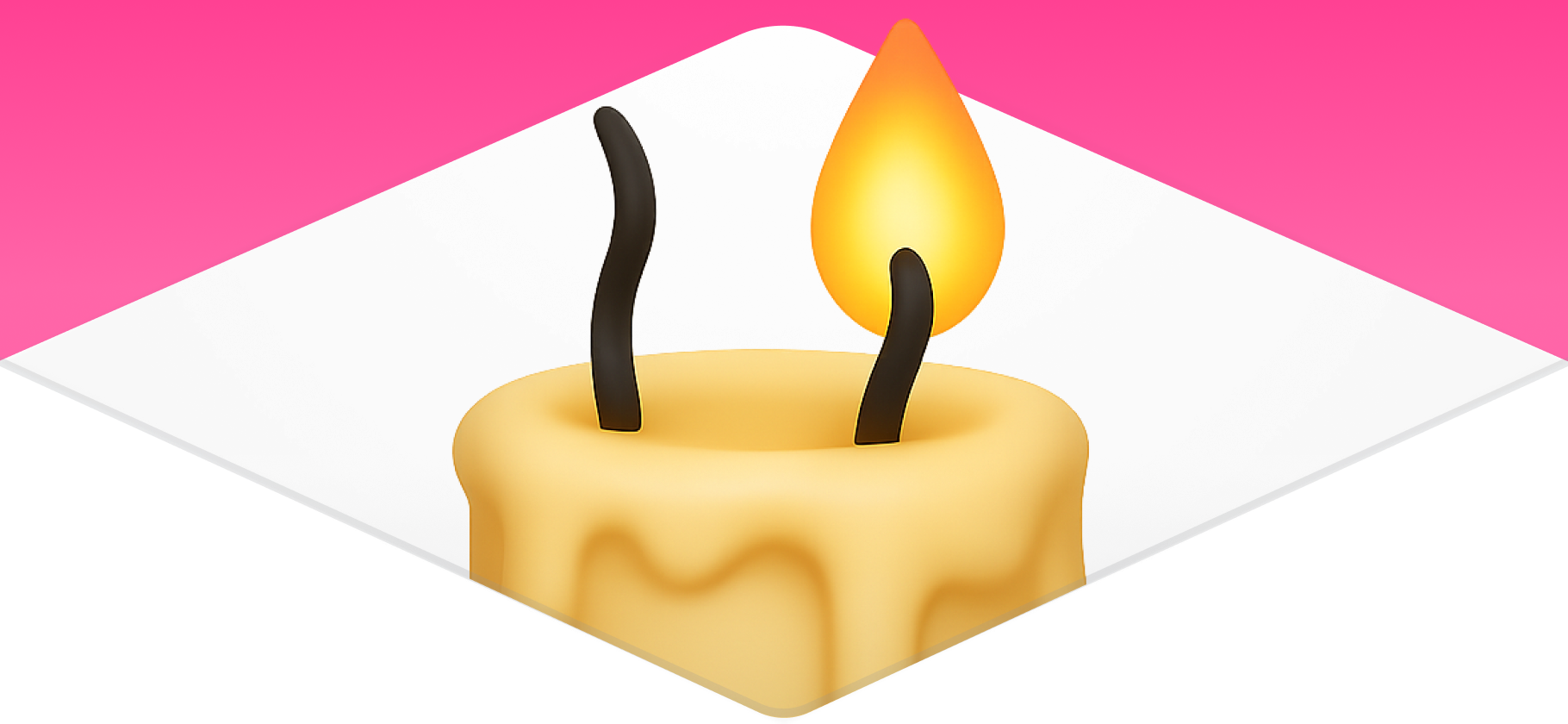Как придумать захватывающую историю и обаятельных героев: 9 вопросов писателю

Хорошая история складывается из множества слагаемых. Это и реалистичные персонажи, и подходящие средства выразительности, и своевременные флешбэки героев.
Мы пригласили в рубрику АМА писателя Алексея Поляринова, выпустившего романы «Кадавры», «Риф» и «Центр тяжести» и два сборника эссе. Алексей ответил на вопросы читателей о том, как грамотно выстроить сюжет, продумать героев и использовать метафоры. Собрали его советы в этом материале.
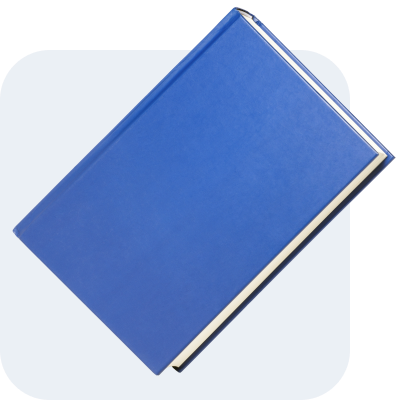
Как придумать идею книги?
Откуда писатели берут идеи для своих историй? Они приходят из ниоткуда, сами по себе, или есть какие-то алгоритмы и приемы поиска? Должна ли хорошая задумка родиться сама? Действует ли тут принцип «писать надо только тогда, когда не можешь не писать»?
Кажется, это просто образ мышления такой. Мне все время в голову приходят идеи для романов или рассказов, большая часть из них никуда не годится. Другие я откладываю «на подумать». Когда ты писатель, у тебя в голове все время булькают какие-то идеи, большую часть из них ты никогда не реализуешь. Приходится выбирать самую ценную и сложную, за которую ты и берешься.
Хорошая задумка чаще всего рождается из мысли, о которой ты долго думал, но что-то вдруг заставило тебя к ней вернуться.
Например, в послесловии к «Рифу» я писал, как придумал этот роман. Мы приехали к бабушке в гости, и моя тетя сказала: «Давайте я вас в машине подожду». Это была полушутка, но я сразу представил сцену, где главная героиня приезжает навестить маму и не может заставить себя выйти из машины и подняться домой — настолько тяжело ей от одной мысли о том, что придется с матерью разговаривать. Из этого сложного клубка эмоций и отношений матери и дочери и родился в итоге роман.
Еще важно: идеи почти никогда не приходят сразу готовыми! Чаще всего это что-то вроде предчувствия. Срабатывает своего рода «паучье чутье». Ты еще не понимаешь, почему именно эта мысль или этот образ тебя взволновали. Это как в археологии: археолог видит какие-то осколки в земле, начинает копать, нарывается на колонны или окаменевшие тела. Он понятия не имеет, что именно откопал. Чтобы разобраться, ему нужно проделать огромное количество грязной работы. И, только полностью выкопав из земли идею, он может нормально оценить ее масштабы и понять, что это вообще такое.

Что должно быть в центре хорошей истории?
А правда ли, что в литературном жанре количество сюжетов имеет конечное значение?
Про это любят рассуждать теоретики, да. Кто-то их 27 насчитал. Борхес писал, что все истории в мире можно свести к четырем: поиск, возвращение домой, осада крепости и убийство бога.
Звучит красиво, но на самом деле это не очень важно, если ты пишешь свою историю. Мне кажется, любой писатель начинает вовсе не с сюжета, любая история в голове начинается, скажем так, с эмоционального ядра — события, поступка или эмоции, которые очень волнуют автора и о которых он хочет сочинить историю. А уж потом, если автор понимает эмоциональное ядро, он решает, в какой сюжет эту историю уместно поместить.
Я люблю рассказывать, например, как Дон Делилло придумал роман «Мао 2». Он увидел фотографию массовой свадьбы на стадионе, тысячи невест в подвенечных платьях. Этот образ так его поразил, что он построил вокруг него свою мысль о том, как сакральное становится массовым. У романа «Мао 2», по сути, и сюжета особого нет — я бы не смог пересказать вам его, потому что вся книга вокруг эмоции построена.

Стоит ли придерживаться классической структуры повествования?
Придерживаетесь ли вы какой-то традиционной структуры при написании книг — например, трехактной?
Я легко нарушаю любые структуры, когда они мешают. Мне кажется, это важный урок, который должен усвоить любой писатель. Знать все классические структуры обязательно, но лишь для того, чтобы их нарушать.
Книги, в которых отчетливо ощущается трехактовость, в моем понимании гораздо слабее книг, в которых что-то идет не так или выглядит непривычно в плане нарратива. Мне кажется, писатель всегда должен искать способ сделать что-то по-новому, уйти с привычной тропы.

Как создать обаятельных персонажей?
Как вам кажется, как формируется привязанность читателя к герою? Особенно если он, мягко скажем, не эталонный «приятный прикольный чувак», а товарищ с тем еще набором терзаний, идиотских решений и неврозов?
Мне кажется, что чем больше у героя терзаний, идиотских решений и неврозов, тем он живее получится, тем он лучше будет как персонаж и тем сильнее читатель к нему привяжется. Читатели сильнее всего реагируют на сложных противоречивых персонажей.

Стоит ли делать главного героя похожим на себя?
В последнее время автофикшен подавляюще популярен. Все больше писатели используют себя в качестве прототипов для главных героев. Как вы думаете, с чем это связано?
Мне кажется, автофикшен популярен, потому что это один из самых демократичных жанров. Говорят, что у каждого человека есть за душой материала хотя бы на одну книгу. Автофикшен как будто бы дает людям обещание эту историю из себя извлечь и опубликовать. Другое дело, что популярность какого-либо жанра всегда в итоге приводит к его банализации и усталости от этого самого жанра.
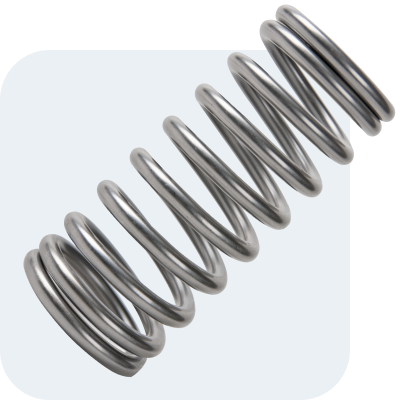
Как придумать классный твист или флешбэк?
Как вы выбираете ритм повествования в сюжете? Как не переборщить с количеством твистов, флешбэков, клиффхэнгеров, чтобы читатель не устал от этого?
Мне кажется, штука в том, что писатель обычно не мыслит твистами, флешбэками и клиффхэнгерами. Я никогда не думаю о них во время работы. Обычно сначала придумываю ключевую метафору, потом подбираю героев, запускаю их в путешествие и стараюсь узнать их получше. Когда герои становятся достаточно живыми, сталкиваю их с препятствиями и наблюдаю за тем, как они эти препятствия будут преодолевать. Из этих столкновений героев с препятствиями и рождаются твисты и клиффхэнгеры. Мне кажется, твисты должны рождаться естественно. Строить книгу вокруг твистов — гиблое дело. Спросите у Шьямалана, он подтвердит.
Например, однажды я придумал твист, в котором дочь должна столкнуть мать в яму и убить. Мне казалось, что это классный, шокирующий твист истории. Я написал кучу текста, где мать и дочь шли к этой яме, нагнетал обстановку. Но, дописав до, собственно, момента, когда нужно было толкнуть мать в яму, я обнаружил, что моя героиня-дочь никогда этого не сделает, это не в ее характере. Если я напишу такой финал, это будет твист ради твиста и ни один читатель мне не поверит. Тут мне пришлось признать поражение и переписать историю иначе, уже без толкания матери в яму. Твист попросту не работал.

Как писать эротику?
Как красиво преподнести читателям эротические эпизоды в книге?
Я никогда не описываю секс, потому что не представляю, как сделать это не пошло. Возможно, вам поможет чтение хороших авторов, которые умели описывать эротические сцены. Например, Буковски. Кажется, один из немногих, у кого описания секса выглядят так, что не хочется выколоть себе глаза от кринжа.

Нужны ли в тексте средства художественной выразительности?
Как развить в себе навык изобретения средств художественной выразительности? Например, я пишу текст и хочу оживить его метафорой или сравнением, но ничего не придумывается. Что бы вы посоветовали делать новичку для обретения такой способности?
Это комплексный вопрос. Мне кажется, что «оживление» текстов метафорами — опасная дорожка. Если метафора не придумывается, значит, наверное, она не нужна в том месте, куда вы хотите ее вставить. Нет ничего плохого в том, чтобы писать просто. Наоборот, мне кажется, стремление к простоте — важный этап роста для любого начинающего автора.
Когда начинаем писать, мы стесняемся своей простоты. Мы привыкли, что писатель — это кто-то вроде Набокова, у которого гроздья метафор свисают с каждой страницы. И пытаемся делать так же. В моих первых литературных опытах в каждом абзаце взгляд героя «сверкал, как православный крест в Пасху», а шаги были как «барабаны идущего в бой войска». А еще ни один герой у меня не мог говорить нормально, никто не говорил в моих рассказах, все герои или «вспыхивали», или «скрежетали», или «яростно вздрагивали злостью».
Но это от неопытности. Мне кажется, самый ценный совет, который я могу дать насчет «оживления» текстов, звучит так: не надо оживлять свой текст. Старайтесь писать только то, что важно и кажется наиболее уместным. Это и будет живой текст, и метафоры в нем будут сами вставать на свои места. Их будет немного, но они будут рождаться естественно. На первых порах вам будет казаться, что ваши тексты слишком просты и даже банальны, что это не литература. Но на самом деле, научившись писать просто, вы очень быстро научитесь подбирать и подходящие метафоры.
Помните, что не вся литература должна выглядеть как парад модернистских экспериментов с метафорами. Набоков или Рушди действительно потрясающе обращаются с ними. Но штука в том, что это их естественное состояние. Они пишут так, потому что это их органика. Если вы так не умеете — а я, например, про себя точно знаю, что так не умею, — то и не стоит пытаться им подражать: будете только зря тратить и калечить собственный талант.
Короче, я бы посоветовал не пытаться давить из себя метафоры, а поступить наоборот — стараться писать максимально просто и прозрачно. Это точно сделает вас лучше как писателя и поможет понять, что именно вы умеете в литературе и в чем хороши.
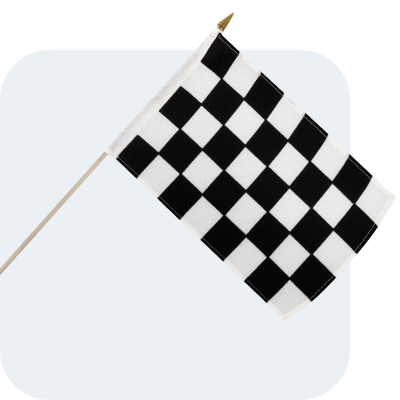
Обязательно ли на старте знать, чем закончится история?
Ты как писатель скорее относишь себя к архитекторам сюжета, то есть придумываешь все заранее, рисуешь схемы, или садовникам — придумал героев и общую канву, а дальше по ходу удивляешь сам себя?
Я не архитектор и не садовник, я скорее тупой енот. Хаотично копаю сюжетные ходы внутри романа до тех пор, пока не нарвусь на клад или противопехотную мину. Или пока не доведу себя до крайнего истощения. Каждый раз обещаю себе, что это не повторится, что в следующий раз у меня будет план. Но проходит время, и я опять совершаю те же ошибки и блуждаю внутри собственного романа как идиот.