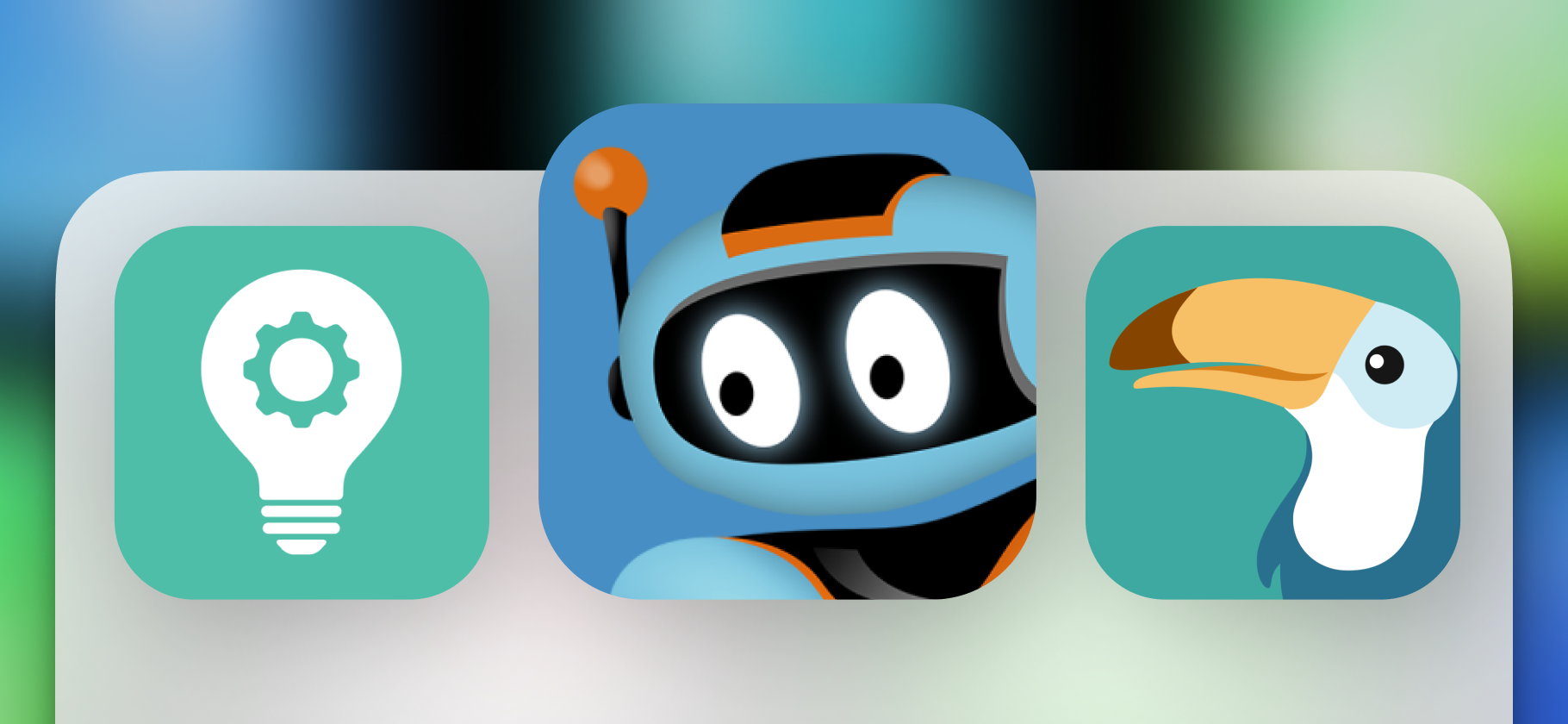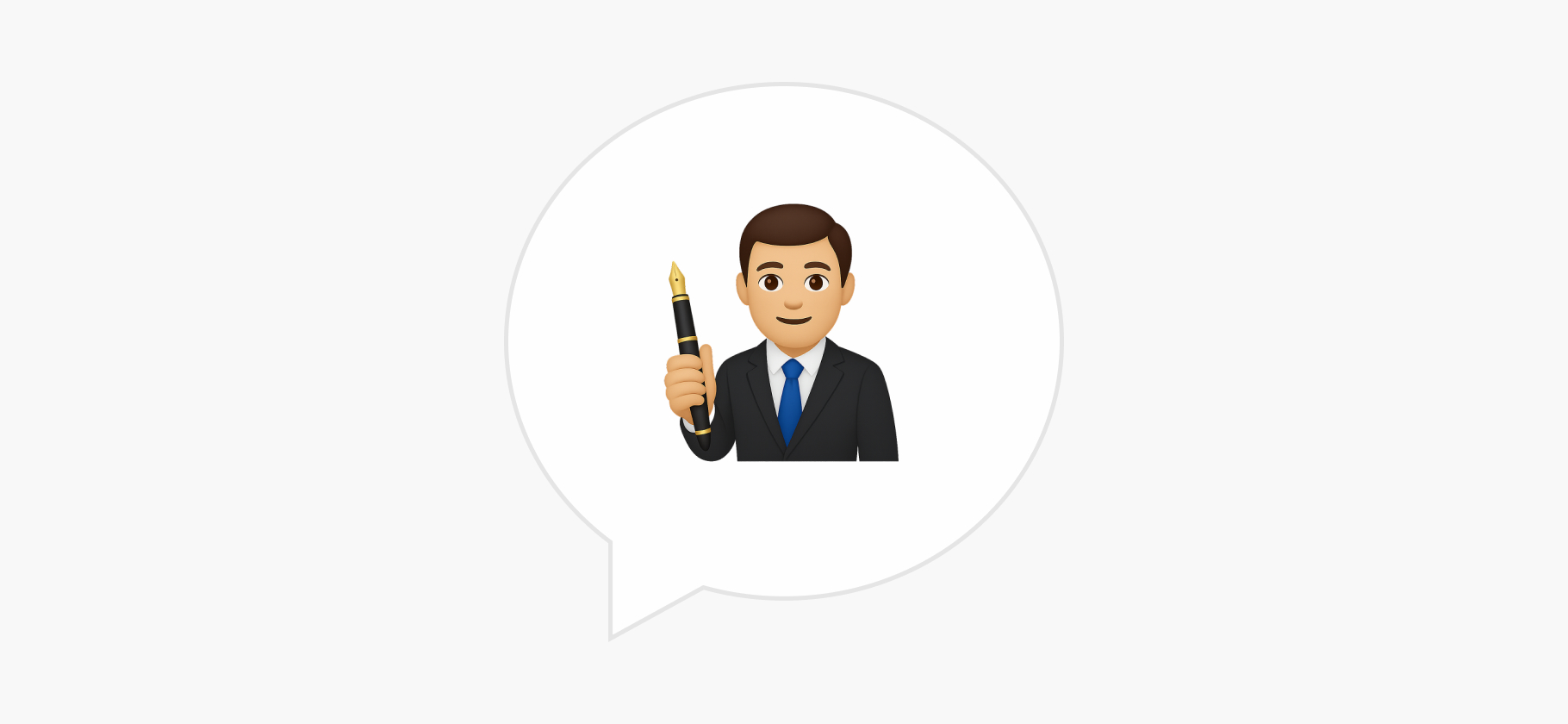«Начала с книг, которые покрывались виртуальной пылью»: я прочла первые 6 книг из своего списка
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
«Это читерство — начинать год с книг, которые можно прочесть за полтора-два часа!» — скажет привередливый читатель и, возможно, будет прав. Дело вот в чем: в конце декабря о закрытии объявило издательство No Kidding Press, и я решила прочитать те их книги, которые в моем книжном приложении покрывались виртуальной пылью с мыслью, что я возьмусь за них когда-нибудь потом. Вероятнее всего, они канут в Лету вместе с издательством.
Правда, план прочесть все отложенные книги NKP безнадежно провалился: к концу пятой я поняла, что перекормила себя историями определенного типа, и хочется уже чего-то другого. Впрочем, обо всем по порядку.
1–3/50. Анни Эрно, «Событие», «Память девушки», «Свое место»
Книги обладательницы Нобелевской премии по литературе 2022 года могут повергнуть нежного читателя в шок. Эрно пишет автофикшн, ее метод — внимательная работа с памятью. Первые две книги — о той памяти, которую вмещает тело, и в какой-то мере об инициации, связанной с его опытом.
«Память девушки» рассказывает о первом сексе (точнее, о нескольких попытках, обернувшихся для героини разбитым сердцем и травлей), а «Событие» — о подпольном аборте. Эрно очищает воспоминания от моральных оценок, ее слог бесстрастный и точный, как медицинский эпикриз, и это, пожалуй, то, что ждешь при работе с таким ненадежным предметом, как человеческая память. Автогероиня Эрно барахтается, чтобы вырваться из оков рабочего класса, к которому принадлежат ее родители, и то, что она переживает, делает ее частью взрослой жизни, где за девичью наивность приходится платить.
«Свое место» составляет дилогию с повестью «Женщина» (ее я читала гораздо ранее) и рассказывает об отце Эрно, который всю жизнь крутился как мог ради лучшей доли. Происходивший из крестьянской семьи, не получивший толком образования, он зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом, а впоследствии держал магазин с небольшим кафе. Его история — история того, как человек пытается выйти за рамки собственного класса, к которому принадлежит по происхождению. Он делал свое дело, чтобы у его дочери была лучшая жизнь, — что ж, он поработал на славу, и его дочь стала известной и многократно титулованной писательницей.
4/50. Егана Джаббарова, «Руки женщин моей семьи были не для письма»
Кажется, такие книги уже стали классикой современного российского инди-книгоиздания: автофикшн, патриархальный уклад, инаковость, телесность, насилие. Джаббарова довольно поэтичным языком описывает закрепощенность женского тела в азербайджанской культуре, параллельно рассказывая историю болезни автогероини, практически парализующей ее собственное тело. В финале мы узнаем, почему, и это связывает обе параллели единым страшным узлом, придавая повествованию дополнительную глубину. Книга органично вписывается в существующий контекст, Джаббарова на примере личного опыта показывает социальные проблемы, например, домашнее насилие или ксенофобию. Если вы хотите познакомиться с таким типом литературы, то этот вариант — очень хороший.
5/50. Шанталь Акерман, «Моя мать смеется»
Очередная книга в жанре автофикшн, густая и липкая как мед, после которой захочется никогда не стареть. Акерман, больше известная как режиссер, описывает уход за пожилой матерью, с мыслью о грядущей неизбежной смерти которой она не может смириться. Параллельно автор развертывает историю своих противоположных традиционным отношений, которые оборачиваются опытом насилия, и совсем скрыта, чуть-чуть виднеется, но подспудно ощущается линия, связанная с заключением матери в нацистском концлагере. Слог интересный, но не скажу, что я вынесла что-то значительное из этой книги, и была рада, когда наконец ее дочитала, настолько она гнетущая. Перечитывать явно не буду.
6/50. Эцуко Инагаки Сугимото, «Дочь самурая»
Тоже женский голос и личный опыт, но поданные совсем иначе. Эцуко Инагаки Сугимото родилась вскоре после начала Реставрации Мэйдзи в семье самурая. Когда она выросла, то переехала к мужу, японскому торговцу, в США. О двух очень разных культурах и написана эта автобиография. Для погружения в атмосферу старой Японии не нужно быть востоковедом, потому что Сугимото все непонятные европейцу моменты поясняет, а где не поясняет она, даются сноски от научного редактора. Книга по-японски созерцательная и неторопливая, это чтение, которое успокаивает как литр ромашкового чая. Однозначно рекомендую всем любителям японской культуры.
***
Кроме того, в качестве нонфикшна весь январь я читала книгу «60-е. Мир советского человека» Петра Вайля и Александра Гениса (признан иностранным агентом). Она была написана в 80-е, в России издана в 2023 году. На самом деле это скорее не нонфикшн, а набор авторских суждений о том времени, пусть вполне метких, основанных на личном опыте и материалах из массовой культуры советских 60-х. Изложение в очень литературной форме, и иногда метафоры вгоняют в ступор, например, высказывание про Гагарина, оплодотворившего небо (просто что?).
Этот труд можно использовать как отличное снотворное: еще ни разу при чтении перед сном мне не удалось дочитать главу до конца, а они совсем небольшие. Даже несмотря на то, что периодом «оттепели» я очень интересуюсь, — возможно, из-за этого я возлагала на книгу слишком большие надежды.
Хотя я обещала себе не перечитывать книги, когда ждет столько новых, я вновь читаю «Рынок удобных животных» Кати Крыловой. Может быть, не бесспорное, но тем не менее важное исследование того, как меняются наши отношения с животными-компаньонами, от которых мы теперь ждем удовольствия и удовлетворения своих нужд, игнорируя ответственность и видоспецифичные потребности питомцев. Крылова тщательно препарирует причины, по которым это происходит, обильно ссылаясь на работы ученых, добавляет она и собственные наблюдения.
Книга — напоминание о том, что наши котики и собачки — не «дети», а непознаваемые другие, отношения с которыми не похожи ни на одни другие и тоже могут иметь глубину, если в них вкладываться.
Из бумажных книг я после перерыва снова взялась за «Нравственные письма к Луцилию» Луция Аннея Сенеки. Отличная, простая и ни разу не занудная точка входа в античную философию стоицизма. Многие наставления Сенеки звучат так, словно они про сегодняшний день, с его гонкой за обогащением, наслаждениями и красивой обложкой. Также Сенека в своих письмах часто рассуждает о смерти, и мысли его на этот счет успокаивают и утешают. Прекрасное и вдумчивое чтение для середины зимы.
***
По итогам января я решила, что в будущем постараюсь разнообразить жанры и стили книг, которые читаю, чтобы похожие истории не создавали ощущение литературного «дня сурка», и кругозор не сужался, а расширялся. Кроме этого, попробую читать произведения подлиннее.
Ставлю себе цель: за февраль закончить начатое и прочитать не меньше, чем четыре книги. Stay tuned!