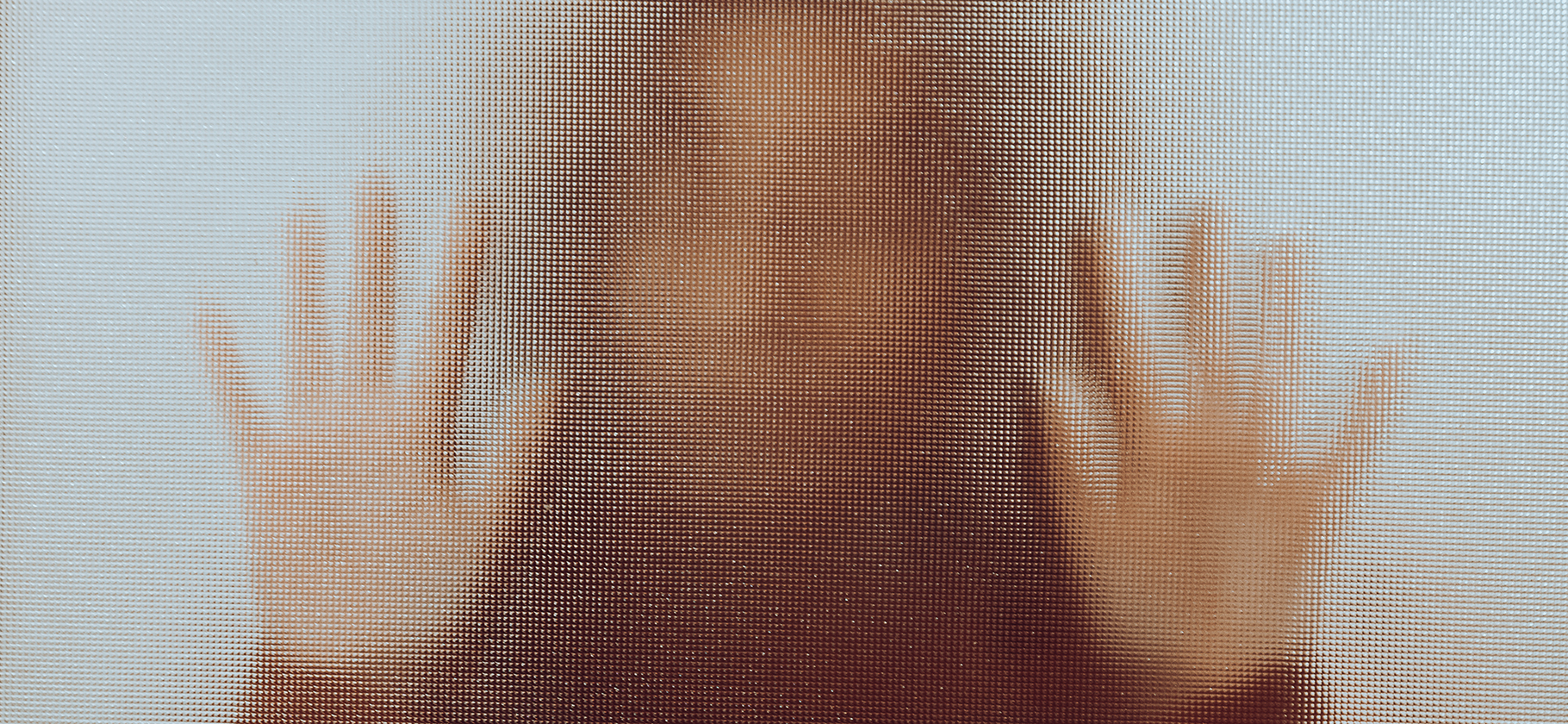Я отсидел по сфабрикованному делу четыре года и получил лишь 80 000 ₽ компенсации
В 2016 меня задержали полицейские и угрозами заставили подписать какие-то документы. Из них следовало, что я причастен к незаконному обороту наркотиков.
Я стал одним из 17 потерпевших по так называемому Самарскому делу — одному из самых резонансных дел против полицейских в России. Следствие доказало, что шестеро сотрудников массово фабриковали уголовные дела. Суд вынес приговор в нашу пользу в 2022 году, но меня полностью оправдали только в 2025. Расскажу, что со мной произошло и как я добивался справедливости.
Кто помогает
Эта статья — часть программы поддержки благотворителей Т—Ж «Кто помогает». В рамках программы мы выбираем темы в сфере благотворительности и публикуем истории о работе фондов, жизни их подопечных и значимых социальных проектах.
В июле и августе рассказываем о помощи взрослым. Почитать все материалы о тех, кому нужна помощь, и тех, кто ее оказывает, можно в потоке «Кто помогает».
Задержание и вынужденное признание




В 2016 году мне было 57. Тогда я уже много лет занимался отделочными работами, вел несколько бригад и прилично зарабатывал. 4 мая вечером после смены мы с сожительницей решили дойти до напарника на другом объекте. Хотел занести ему поесть и часть его оплаты, которую я получил в тот день.
Вышли от него в десять часов вечера. Я открыл банку джин-тоника, моя спутница — бутылку пива. Отошли на триста метров, когда на нас налетели неизвестные. Кажется, их было минимум шесть человек: уже стемнело, да и трудно сосчитать, когда на тебя нападают со всех сторон.
Все случилось так быстро, и сначала я даже не понял, что происходит. Лишь позже я увидел, что это полицейские. Они не предъявили никаких удостоверений — просто скрутили руки и стали обыскивать.
Досмотрев мою одежду, один из сотрудников отрицательно помахал головой старшему коллеге. Тогда я догадался, что ищут наркотики. Не удержался и пошутил: «Что, не повезло, не ваш день?» Старший, видно, тоже был «с юмором»: «Сейчас все исправим». Меня посадили в тонированную машину, а мою спутницу увели в другую.
Я сразу понял, почему попал в эту ситуацию — не скрываю: иногда употреблял наркотики. Попробовал еще в молодости, не подсаживался, но и не отказывался при возможности. Видимо, кто-то из знакомых наркопотребителей меня и сдал.
Нас отвезли в отдел. Там меня три часа уговаривали признаться, будто у меня нашли наркотики, но я не шел ни на какие соглашения. В какой-то момент они специально приоткрыли дверь, чтобы я увидел сожительницу. Она сидела на унитазе — лицо красное, тушь в подтеках. Над ней стоял полицейский с закатанными рукавами, гнул дубинку перед ее лицом и угрожал. Позже я узнал, что ее избили: отхлестали по лицу, у нее остались ушибы грудной клетки.
Я был в гневе, закричал: «Вы что творите-то?» На это мне сказали: если не соглашусь на условия, нас оформят вместе. Дали две-три минуты подумать.
А о чем после такой картины можно думать?
Я попросил, чтобы подругу отпустили домой, и обещал подписать протокол по статье о хранении наркотиков . За это грозило до трех лет, но ничего умнее я тогда придумать не смог.
Полицейские отпустили мою сожительницу, и мы дождались, пока она добралась домой. Я поговорил с ней по телефону, убедился, что все в порядке, после чего мне подсунули бумажки на подпись. У меня от возраста уже тогда садилось зрение. Очки для чтения я оставил на работе и не смог прочитать написанное. Понадеялся: все-таки мужики, слово сказали — значит, договорились.
В три часа ночи мы поехали к моему дому. Постояли 10—15 минут, даже не выходя из автомобиля, и уехали. Позже в бумагах говорилось, что у меня провели обыск. Затем меня возили в место, где я якобы забрал закладку: попросили подойти к какой-то трубе и взять ее рукой. Потом посадили в машину, где был еще один мужчина, и разыграли сценку, будто он мне дает деньги, а я ему — наркотики. Все это сфотографировали.
Еще меня отвезли на освидетельствование. Ожидали, что в крови найдут наркотики, а там была только банка джин-тоника. Один полицейский остался со мной в коридоре, а другой зашел к врачам и минут десять, видимо, уговаривал их. В итоге анализы якобы что-то показали.
В участке я провел еще сутки без сна. Только спустя два дня меня увезли в СИЗО. Я был таким усталым, что просто бросил бумажки на стол и лег спать. А когда проснулся, соседи «обрадовали»: я подписал протокол по статье не за хранение, а за сбыт — за это грозило до 12 лет лишения свободы. В тот момент я почувствовал себя лохом.
Голодовка и приговор



Я понял, что оправдываться бесполезно: если человек сам подписал документы, он сразу становится обвиняемым — а им веры нет. Параллельно к моей первой бумажке с подписью начали «прилипать» другие — якобы какие-то экспертизы, подтверждения. В результате мне принесли для ознакомления толстую папку.
Я понимал, что вряд ли что-то можно сделать, но все равно стал строчить жалобы во все инстанции. За все время в заключении к кому только ни обращался: в Следственный комитет, в Комитет собственной безопасности, в прокуратуру. Даже Голунову написал . Но я получал отписки или мне никто не отвечал, а часть обращений пропала — администрация их так и не отправила.
Понервничал я серьезно. Через месяц у меня случились сердечный приступ и клиническая смерть. Когда я еще лежал в стационаре в неважном состоянии, следовательница вызвала меня на допрос. Тюремные врачи — тоже подневольные: соберут и повезут хоть на носилках.
В следственном управлении какой-то сердобольный сотрудник привел врача. Тот сделал мне укол и отправил в камеру. Следовательницу это возмутило: она накричала на других сотрудников, чтобы они вели меня на допрос. Я отказывался, и они стали поднимать насильно, а следовательница орала: «Вы что там, справиться не можете?» Пришлось пойти.
Через три месяца ко мне прислали участкового. Он потребовал подписать бумажки, будто бы я продавал наркотики в его районе, чтобы он выписал мне штраф. Я послал его матом, не постеснялся. В следующий приезд следовательница сказала, что добавила к первой части моего обвинения по статье 228 еще и третью — за торговлю в особо крупном размере. За это грозило уже до 15 лет.
Сказала: «Ты плохо себя ведешь».
Тогда я решил бунтовать — 9 сентября написал официальное заявление на голодовку . Голодовка — это ЧП в системе ФСИН: в службе должны разбираться, по какой причине она произошла. Я рассчитывал, что привлеку внимание к ситуации — тогда проведут нормальное расследование, и все встанет на свои места.
По закону голодающих должны содержать отдельно, но сотрудники не отсаживали меня из камеры. Начальница СИЗО узнала о моей голодовке только через неделю, потому что я перестал вставать и появляться на проверке. Она была полковником медицинской службы, и когда зашла в мою камеру, сразу же учуяла запах ацетона . Набросилась на оперов, тут же прибежали санитары, и меня на носилках унесли в стационар.
Начальница СИЗО написала заявление, чтобы мне выделили специальное питание — по-моему, два сырых яйца, молочную смесь и 200 г детского питания на день. Если голодающий отказывается есть, его привязывают и вливают все насильно через шланг . Еще я практически все время находился под капельницей с физраствором для подпитывания крови и чтобы не встали почки. Два-три раза в день врачи мерили давление, и за мной постоянно следили в камере, чтобы я не совершил суицид.
Выделенного питания хватило на три недели. Сначала начальница приносила что-то из дома, а потом бросила: «Ну а что, я тебя содержать буду?» Стал жить на уколах и капельницах.
К счастью, мне попадались нормальные врачи. Они объяснили, как работает организм и какими последствиями грозит отказ от пищи в моем возрасте. Сказали, что для поддержания работы почек и крови нужно давать небольшую подпитку — хоть маленький сухарик и что-то сладкое раз в день. Врачи сами приносили мне печенье или конфеты, которые я понемногу ел. Чтобы меня не застукали за чревоугодничеством, приходилось конспирироваться.
Поначалу держаться было тяжеловато, особенно в первые дни, когда сидел в общей камере: ребятишки кушают, ложками гремят, едой пахнет. А потом привыкаешь и ни на что не реагируешь — словно впадаешь в анабиоз.
Я стал подсыхать, со временем — даже ходить с трудом. Меня возили на суды, и зал заседания был, кажется, на четвертом этаже. Сначала я поднимался с поддержкой, а потом уже не мог — и конвой таскал меня на руках. Дошло до того, что я сидел все заседание .
В итоге меня поселили в карцер, потому что в СИЗО не было подходящих помещений для одиночного содержания с видеонаблюдением. Обычно туда отправляют только на определенное время в наказание, поэтому там нет условий для жизни. В карцере отсутствовало стекло, и я спал полностью одетым, поскольку было холодно.
Прокурор запросила мне 12 лет и один месяц лишения свободы. Посчитал, что если мне дадут такой срок, то я освобожусь только в 70 лет.
Можно сказать, обвинение выписало мне путевку в один конец.
Но видимо, в судье осталась капелька человеческого. Заседание проходило 30 декабря, и он будто бы сделал мне новогодний подарок — поменял третью статью на первую и дал срок четыре года и два месяца.
Меня перевезли в колонию в Сызрани. Адвокат подал апелляцию, и пока я не получил отказ по ней, я продолжал голодовку. Потом взвесил ситуацию и решил: все равно ничего не добьюсь, только доведу себя до смерти. За четыре с половиной месяца похудел с 70 до 48 килограммов.
В колонии мне поставили анорексию, поселили в отряд для людей с инвалидностью и целый год откармливали. Конечно, эта история попортила мне здоровье: за четыре года лежал в стационаре 12 раз.
Наказание полицейским



Когда стало лучше, я продолжил писать жалобы и обращения. Кто-то из заключенных рассказал мне о фонде «Общественный вердикт»* , и я связался с ним. Первый раз мне пришло письмо с отказом, поскольку ко мне не применяли пытки. Но через пару месяцев обращение пересмотрели, ко мне приехала адвокат от фонда, и организация взялась меня защищать.
Примерно тогда же поймали на торговле наркотиками руководителя группы полицейских, которая сфабриковала мое дело. Оказалось, что на работе он сажал преступников, а вечером — сам нарушал закон.
Ко мне начали регулярно приезжать следователи и представители службы собственной безопасности МВД, меня возили на оперативные мероприятия и эксперименты. Постепенно, из слов сотрудников и других участников процесса, начала вырисовываться полная картина произошедшего. Потерпевшими по делу проходили 17 человек, а журналисты обнаружили больше 200 дел .
Следствие и судебный процесс длились до 2022 года. По делу проходили шесть полицейских и 15 фиктивных закупщиков и понятых. Они массово фабриковали такие дела, как у меня. Другим пострадавшим пришлось еще хуже. Кому-то сломали ключицу, кого-то — по нескольку раз для досмотра раздевали догола в кабинете. Еще полицейские отбирали деньги и иномарки .
Вместе со мной договор с «Общественным вердиктом»* заключили еще пять пострадавших. Фонд консультировал нас, представлял на суде и помогал добиться огласки в СМИ. У некоторых были свои адвокаты, а кто-то побоялся или отказался участвовать в процессе.
Сначала все были уверены, что посадить полицейских невозможно и дело даже не дойдет до суда. Когда процесс начался, считали: максимум погрозят пальцем и выгонят со службы.
Но я вообще не привык сдаваться. Пока не лягу пластом, буду добиваться своего.
Сами полицейские тоже чувствовали себя безнаказанными. Они пили коньяк с колой прямо в зале суда, не приходили на заседание и объясняли это какими-то детскими причинами. Вели себя неуважительно по отношению к судье, получали от нее замечания, а после по-дружески обсуждали с ней что-то на лавочке.
Сломать эту систему было практически невозможно. Но в итоге следствие доказало, что оперативники фабриковали дела ради хорошей отчетности. В ноябре 2022 их вместе с закупщиками и понятыми приговорили к лишению свободы на срок от четырех лет и трех месяцев до шести лет .
Считаю, что наказание явно занижено. Незадолго до нашего вынесли приговор по аналогичному делу в Сургуте, и там сроки — от 13 до 18 лет. А над нами будто посмеялись. Некоторые из полицейских вышли на свободу прямо в зале суда — им зачли сроки в СИЗО и домашний арест.
К тому моменту я тоже был на свободе: мой срок закончился 3 июля 2020 года.
Жизнь после освобождения



Вернуться к работе было сложно: когда тебя надолго выкидывает за борт профессии, твое место занимает другой. К счастью, помогли знакомые: сначала позвали охранять базу, потом — автостоянку, а затем — опять на стройку. За заработками я не гнался: здоровье уже не то, — делал то, что по силам.
21 марта 2024 года меня шарахнул инфаркт. Теперь сижу дома — восстанавливаюсь. К тому же живу в своей квартире на пятом этаже хрущевки — а у меня сердечная недостаточность, и при малейшей нагрузке я задыхаюсь. Эти проблемы у меня были и раньше, но опыт заключения и голодовки их усугубил. Без подработки приходится экономить — живу только на пенсию. С 2025 года она 15 100 ₽, а до этого была 13 300 ₽.
Мой приговор отменили только в январе 2024. Я и другие подзащитные по «Самарскому делу» просили компенсацию по 500 000 ₽ для каждого пострадавшего. В ноябре нам присудили по 80 000 ₽.
Это просто издевательство. Мой адвокат в своей речи сравнила эту сумму с месячной зарплатой.
В июле 2025 подал иски о взыскании компенсации морального вреда и возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Требую 7,5 млн рублей.
Уголовное дело против меня прекратили только в марте 2025 года . Хотя я уже оправдан, у меня до сих пор висит надзор .
Пережитый опыт помог мне разобраться, кто есть кто. Еще в СИЗО я хотел завести доверенное лицо, которое могло бы иногда заезжать ко мне, забирать обращения и отправлять по почте, чтобы они не пропадали. К кому я только ни обращался, но никого не нашел.
К некоторым друзьям претензий нет. У них иной круг знакомств, и если бы они ездили ко мне на свидания, их бы не поняли. Но даже родственники не стали помогать. Все сводилось к тому, что у них своя жизнь: полно забот и нет времени. Зла не держу, но в голове остался вывод: рассчитывать на них не стоит. Зато теперь этих людей, которых вообще не беспокоила моя судьба, очень интересует сумма компенсации.
Знакомые и родственники не верили мне, хотя прямо никто этого не говорил — уходили от темы. Но все равно это чувствовалось вплоть до решения суда. И даже после некоторые не верили — приходилось показывать «бумаги». Только один друг детства — подполковник полиции — ни разу не усомнился в моих словах и поддерживал с самого начала. Но в декабре 2024 года он умер.
Свою сожительницу во время заключения я не тревожил, потому что ей и так досталось. Она до сих пор боится преследования, хотя прошло уже столько времени. Никому не дает адрес и телефон, уже трижды сменила квартиру. Мне жаль, что она попала со мной в такую ситуацию.
Сейчас эта женщина живет с другим мужчиной, но мы поддерживаем общение. До срока у нас были нормальные отношения, прожили с ней 3,5 года. Обидно, что все так кончилось. Но хуже всего, что потерянные годы не вернешь. Я бы мог прожить их по-другому.
Пока я пытаюсь получить инвалидность. А после хочу отдохнуть: добиваться справедливости уже девятый год — очень утомительно. Дальше планов у меня нет.