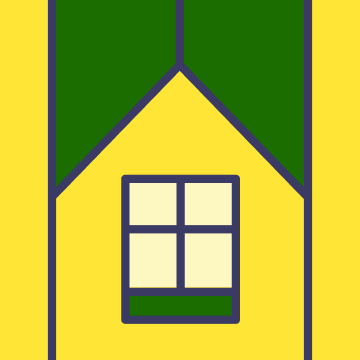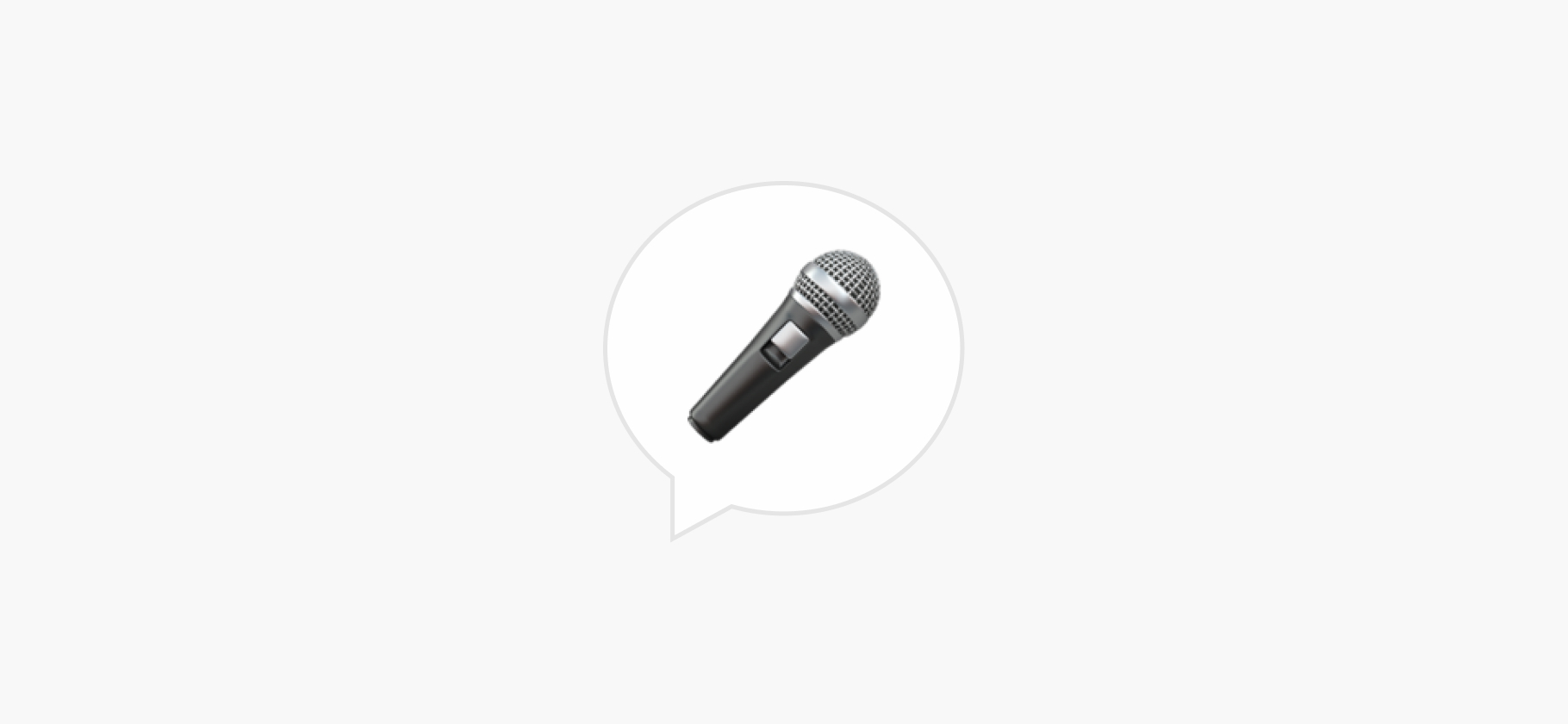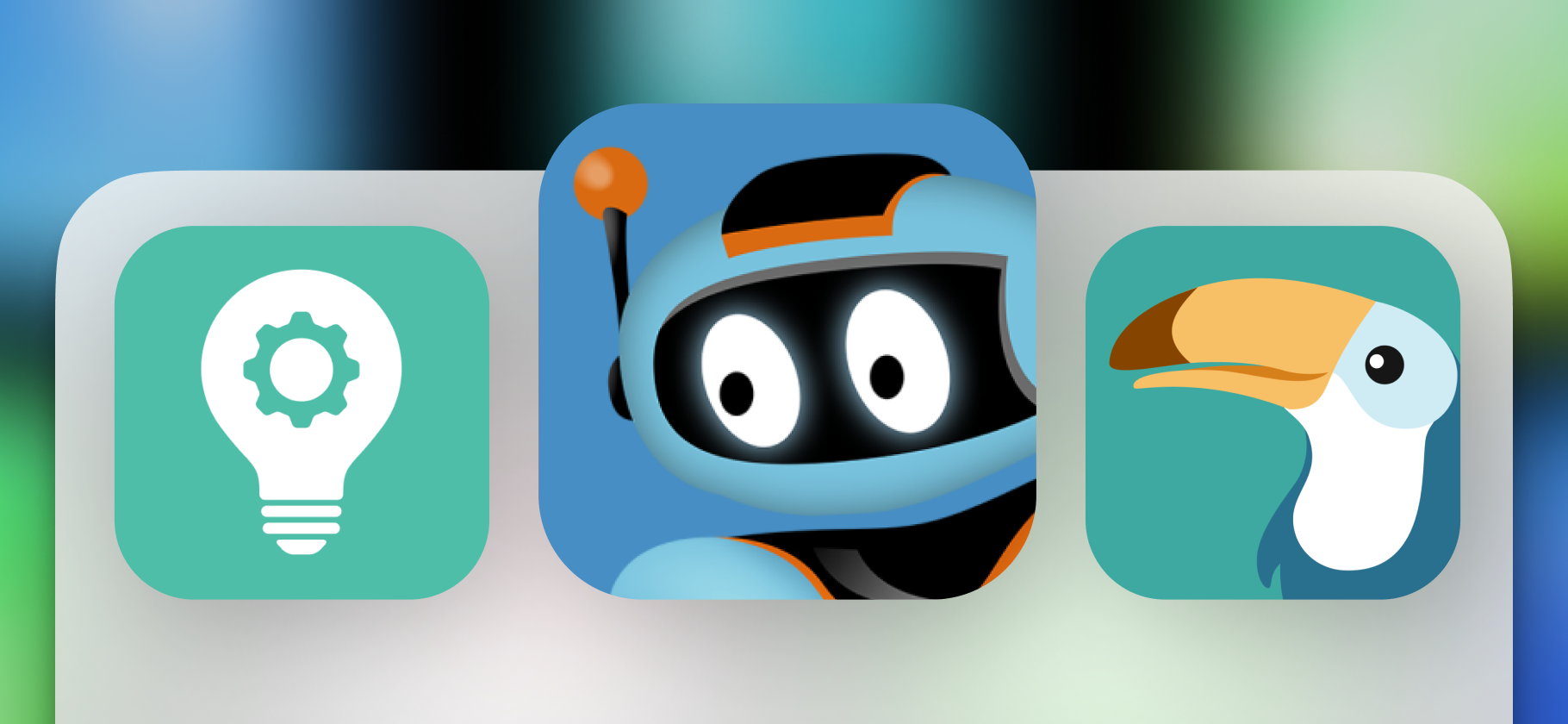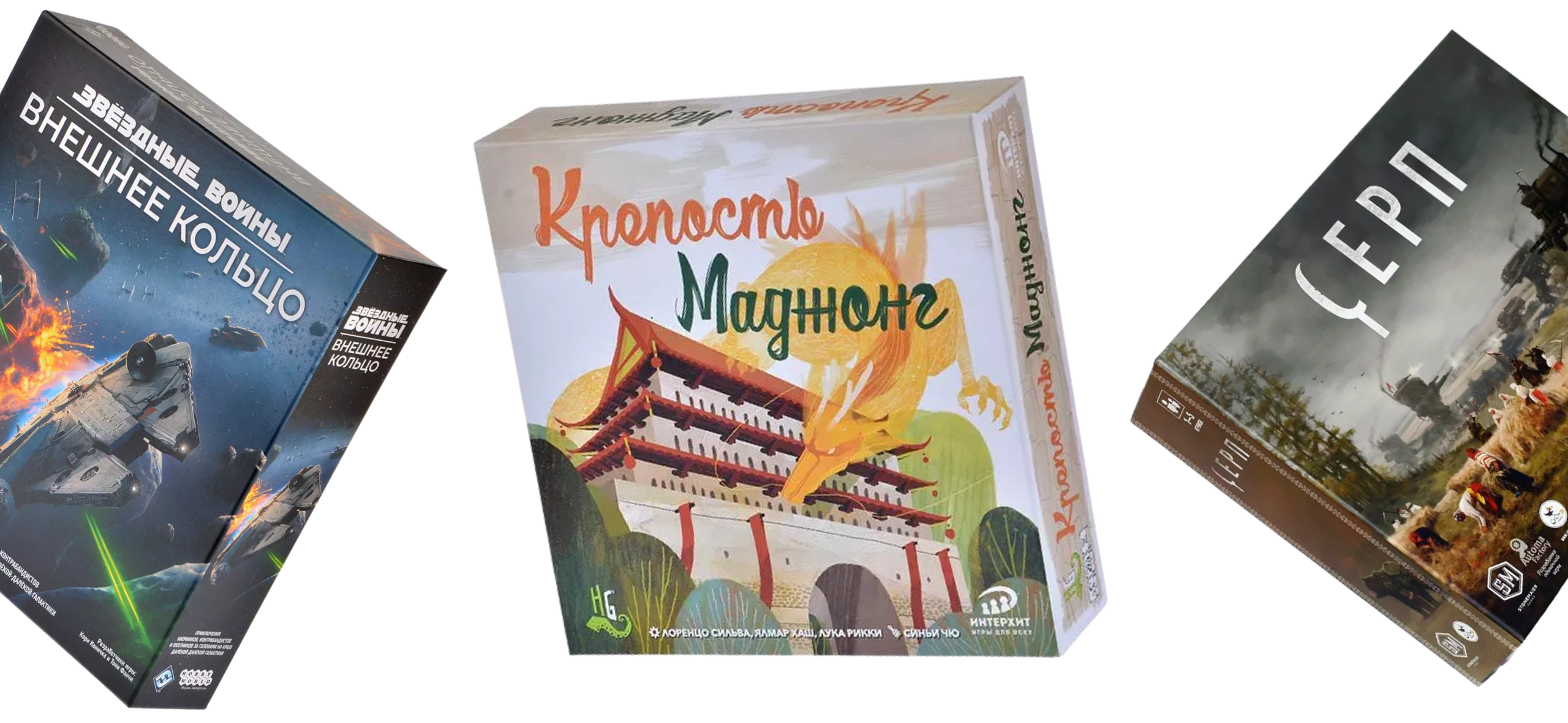Юрист объясняет: как защитить адвокатскую тайну при обыске
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Теме оперативно-розыскных и следственных действий в отношении адвоката, в т.ч. обыску, уделяется достаточно много внимания в адвокатской среде: адвокатские палаты разрабатывают рекомендации для адвокатов, организуют игровые постановки обыска, анализируют практику по делам, связанным с оспариванием незаконных процессуальных действий — все это с тем, чтобы максимально подготовить адвокатов к отстаиванию своих профессиональных прав в случае вторжения в их деятельность со стороны правоохранительных органов. Эти мероприятия адресованы адвокатам и обычно не выходят за пределы профессионального сообщества.
О Сообщнике Про
Адвокат, член Адвокатской палаты Москвы, партнер Адвокатского бюро Борисова.
Однако данная тема интересна не только адвокатам, но и их доверителям, принципиально заинтересованным в неприкосновенности переданных адвокатам сведений, которые при производстве обыска у адвоката подвергаются угрозе разглашения. Это особенно актуально, если уголовное преследование адвокатов связано именно с их профессиональной деятельностью и используется в качестве средства давления для недопущения эффективных результатов работы.
В связи с этим есть смысл рассказать о том, как в таких случаях действующее законодательное регулирование защищает находящиеся у адвокатов информацию и материалы доверителей, и как это реализуется на практике.
Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи подразумевает конфиденциальность отношений между адвокатом и доверителем. Именно необходимость сохранения тайны доверителя как основа его иммунитета и базовое условие доверия к самому адвокату и к адвокатскому сообществу в целом обусловливает наделение адвоката специальным статусом при осуществлении в отношении него уголовного преследования, включая производство обыска.
В основе правовой регламентации — Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Закон об адвокатуре), который определяет принципы адвокатской деятельности, в т.ч. режим адвокатской тайны, а также правовой статус адвоката и гарантии его независимости.
Адвокатская тайна распространяется на любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, в т.ч. сам факт обращения к адвокату (имена и названия доверителей), условия соглашения об оказании юридической помощи, все адвокатское производство по делу, доказательства и иные документы по делу, информацию, полученную от доверителя или собранную при оказании юридической помощи, содержание правовых рекомендаций, адресованных доверителю, любые иные относящиеся к делу сведения.
Законом об адвокатуре установлено базовое правило, согласно которому полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы, входящие в производство адвоката по делам его доверителей (за исключением орудий преступления и предметов, ограниченных в обращении или запрещенных к обращению), не могут быть использованы в качестве доказательств обвинения. Данное правило действует в т.ч. и после приостановления или прекращения статуса адвоката.
Вместе с тем хотелось бы предостеречь от иллюзий, будто бы любым документам можно придать конфиденциальный характер через включение их в состав адвокатского производства. Исходя из базового принципа законности, на основе которого действует адвокатура, гарантии конфиденциальности распространяются на отношения между адвокатом и его доверителем, носящие правомерный характер. Как указал Конституционный суд в Постановлении от 17.12.2015 № 33-П, под режим адвокатской тайны могут подпадать только те предметы и документы, которые получены или созданы адвокатом без нарушений уголовно противоправного характера в рамках отношений по оказанию квалифицированной юридической помощи.
Применительно к правомерно сформированным материалам адвокатских производств нормативно-правовые механизмы защиты адвокатской тайны устанавливает отраслевое процессуальное законодательство — Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации, в том числе его нормы, посвященные производству по уголовным делам в отношении спецсубъектов, к числу которых отнесены и адвокаты. В 2017 году УПК РФ был дополнен статьей 450.1, регламентирующей обыск и иные следственные действия непосредственно в отношении адвокатов. Таким образом, сейчас данный вопрос подчиняется специальному правовому регулированию.
Итак, введенные в 2017 г. конкретные правовые механизмы защиты адвокатской тайны при производстве обыска у адвокатов состоят в следующем.
В первую очередь, обыск может производиться только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого. Соответственно, в отсутствие процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого обыск у адвоката не возможен. В силу правил исключительной подследственности предварительное расследование в отношении адвокатов может осуществляться только следователями Следственного комитета РФ, при этом постановление о возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого должно быть вынесено руководителем следственного органа СК РФ по субъекту РФ и никем иным.
Во-вторых, обыск у адвоката, связанный с доступом к материалам адвокатского производства, возможен только на основании судебного постановления, тогда как по общему правилу или в «исключительных случаях, не терпящих отлагательства» для обыска достаточно постановления следователя. Требование предварительного судебного санкционировании обыска (ДО его проведения) применительно к адвокатам нельзя преодолеть даже через механизм последующего судебного одобрения.
В-третьих, и это принципиально важно, закон предъявляет особые требования к содержанию судебного постановления о производстве обыска у адвоката: в нем должны быть указаны фактические основания для обыска и перечислены конкретные отыскиваемые объекты. Изъятие объектов, не указанных в судебном постановлении, не допускается (за исключением запрещенных к обращению). Кроме того, не допускается изъятие адвокатского производства в целом, фотографирование и иная фиксация его материалов.
Требование конкретизации отыскиваемых объектов не считается соблюденным в случае использования абстрактных формулировок, как то «документы и материалы, имеющие отношение к уголовному делу…» — предмет поиска должен быть обозначен в судебном постановлении с достаточной степенью определенности, позволяющей четко дифференцировать его как от иных материалов данного производства, так и от материалов других производств.
Наконец, еще одним значимым правовым механизмом обеспечения адвокатской тайны является требование обязательного присутствия уполномоченного представителя региональной адвокатской палаты при производстве обыска. Его задача как независимого наблюдателя от адвокатской корпорации состоит в контроле за соблюдением предоставленных адвокатам гарантий, в частности, недопущении необоснованного исследования, копирования и/или изъятия материалов, не указанных в судебном постановлении, фиксации нарушений и обжаловании действий следователя. На практике уполномоченные представители адвокатских палат оказывают весомое противодействие сотрудникам правоохранительных органов — часто за каждый документ адвокатского производства разворачивается серьезная «борьба», чтобы не допустить необоснованного нарушения его неприкосновенности.
Если говорить о мерах, предпринимаемых самими адвокатами с целью недопущения произвольного раскрытия адвокатской тайны в процессе обыска, то они сводятся к следующему.
В качестве мер превенции большое значение имеет надлежащее ведение и хранение адвокатских досье, маркировка их грифом «адвокатское производство» для обозначения режима адвокатской тайны, обозначение помещений и мест хранения как используемых адвокатом. Соответствующая маркировка в обязательном порядке размещается на ноутбуках и иных электронных носителях информации.
Если указанные в судебном постановлении объекты не составляют адвокатскую тайну, их рекомендуется выдать добровольно, чтобы исключить необходимость поиска, в том числе в материалах адвокатского производства, и тем самым устранить риск раскрытия информации по делам доверителей.
В процессе обыска самозащита адвокатов состоит в тщательном наблюдении за каждым этапом обыска исходя из установленных законом требований, и, в зависимости от ситуации, четком и своевременном процессуальном реагировании. Отслеживанию и фиксации подлежат наличие документов-оснований для производства обыска, их соответствие требованиям к содержанию и оформлению, круг участвующих лиц, соблюдение формального порядка и условий производства обыска и, конечно же, характер обследуемых и изымаемых материалов. Наибольшее внимание уделяется оформлению протокола обыска, в котором максимально полно и подробно отражаются все допущенные нарушения в виде замечаний на протокол или прилагаемых к протоколу заявлений.
Таким образом, с процессуальной точки зрения весь арсенал возможностей адвоката для защиты адвокатской тайны сводится к тому, чтобы своевременно заявлять о своих правах, возражать в отношении допускаемых нарушений, фиксировать все замечания в протоколе обыска, на основании которого затем обжаловать действия следователя, а при необходимости и судебное постановление о производстве обыска.
Необходимо учитывать, что при обыске оппонентами адвоката являются представители власти, в т.ч. силовые структуры, что неизбежно сопровождается их физическим и психологическим доминированием. Тем не менее предоставленный законом процессуальный инструментарий при активном и последовательном его использовании может предотвратить необоснованное вторжение в сферу адвокатской тайны. Любые нарушения при их должной фиксации в дальнейшем влекут риск признания недопустимыми добытых в процессе обыска доказательств в порядке ст.ст. 88, 235 УПК РФ — а это серьезный аргумент против произвола со стороны правоохранительных органов.
Безусловно, на практике все зависит от поведения конкретного адвоката, от его стрессоустойчивости и самообладания и, конечно, от степени владения нормативной базой, регулирующей производство обыска. В любом случае действия адвоката в кооперации с уполномоченным представителем адвокатской палаты, а также с приглашенным защитником существенно повышают эффективность обеспечения режима адвокатской тайны.
Судебная практика по делам, связанным с оспариванием незаконных обысков, время от времени создает позитивные прецеденты, постепенно формирующие инструмент сдерживания правоохранителей.
Так, например, совсем недавно, в марте 2025 года, Замоскворецкий районный суд Москвы на втором круге рассмотрения признал незаконными обыски, произведенные в жилище и офисе адвоката в отсутствие судебного постановления.
В 2020 году был громкий прецедент в Воронеже, когда обыск у адвоката был признан незаконным. В той ситуации судебное постановление было, однако, ходатайствуя перед судом о санкционировании обыска, следователь намеренно утаил, что обыск будет производиться у адвоката. В последующем это судебное постановление было отменено вышестоящей инстанцией, а в отношении следователя было возбуждено самостоятельное уголовное дело, в результате которого он был осужден за превышение должностных полномочий. В рамках того дела впервые в истории с МВД в пользу адвоката была взыскана компенсация морального вреда.
Есть немало и других дел с удачным исходом — такие случаи всегда очень интенсивно освещаются на площадках адвокатского сообщества.
В целом же положительный вектор движения в контексте обеспечения профессиональных прав адвокатов при производстве обыска — это, безусловно, всецело заслуга адвокатской корпорации и ее органов, включая комиссии по защите прав адвокатов при советах адвокатских палат, благодаря которым удалось не только закрепить уголовно-процессуальные механизмы защиты адвокатской тайны 2017 г., но и контролировать их применение на практике, эффективно противодействуя произволу со стороны правоохранительных органов.