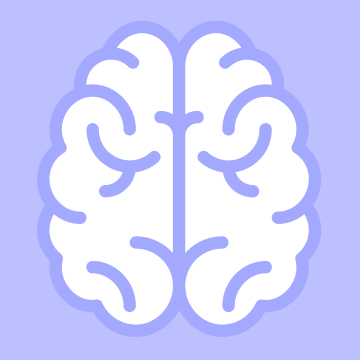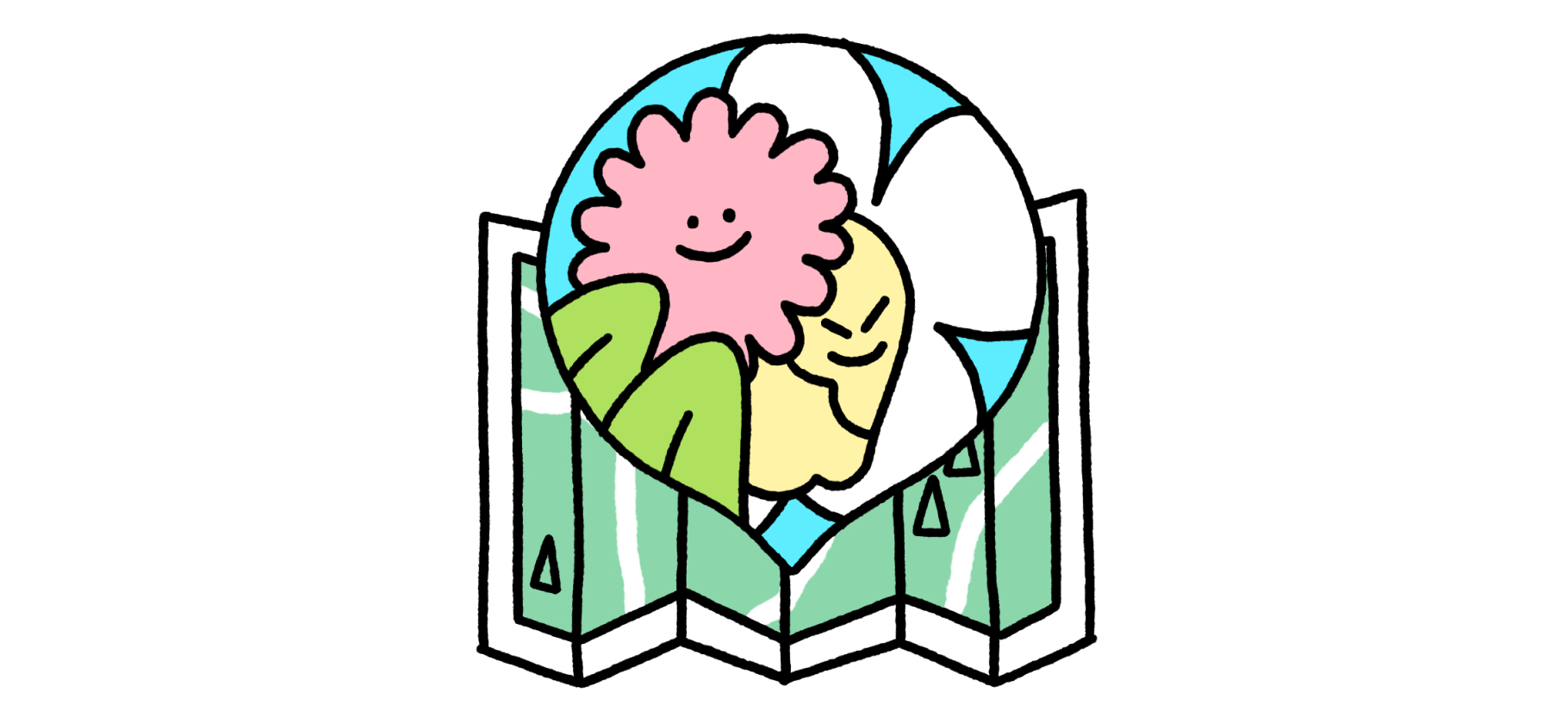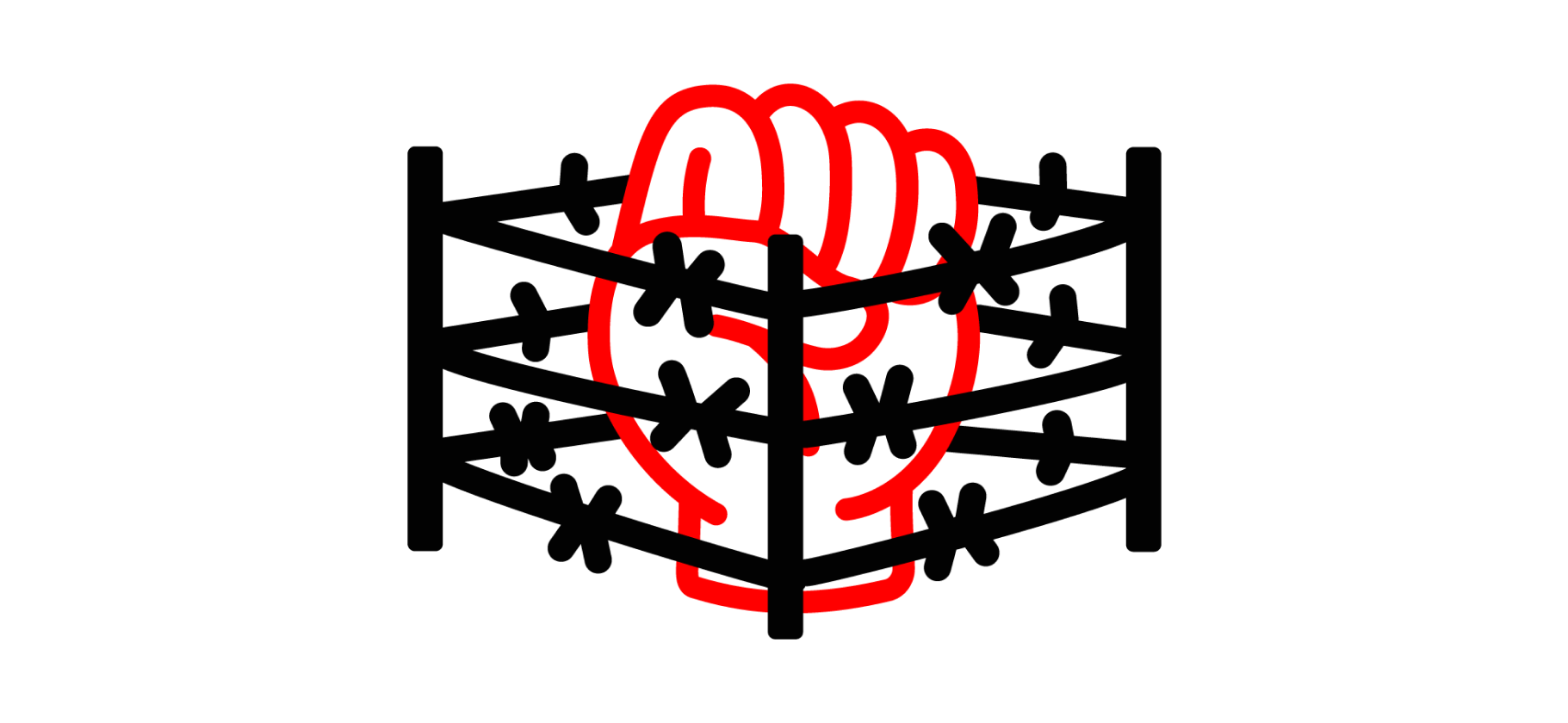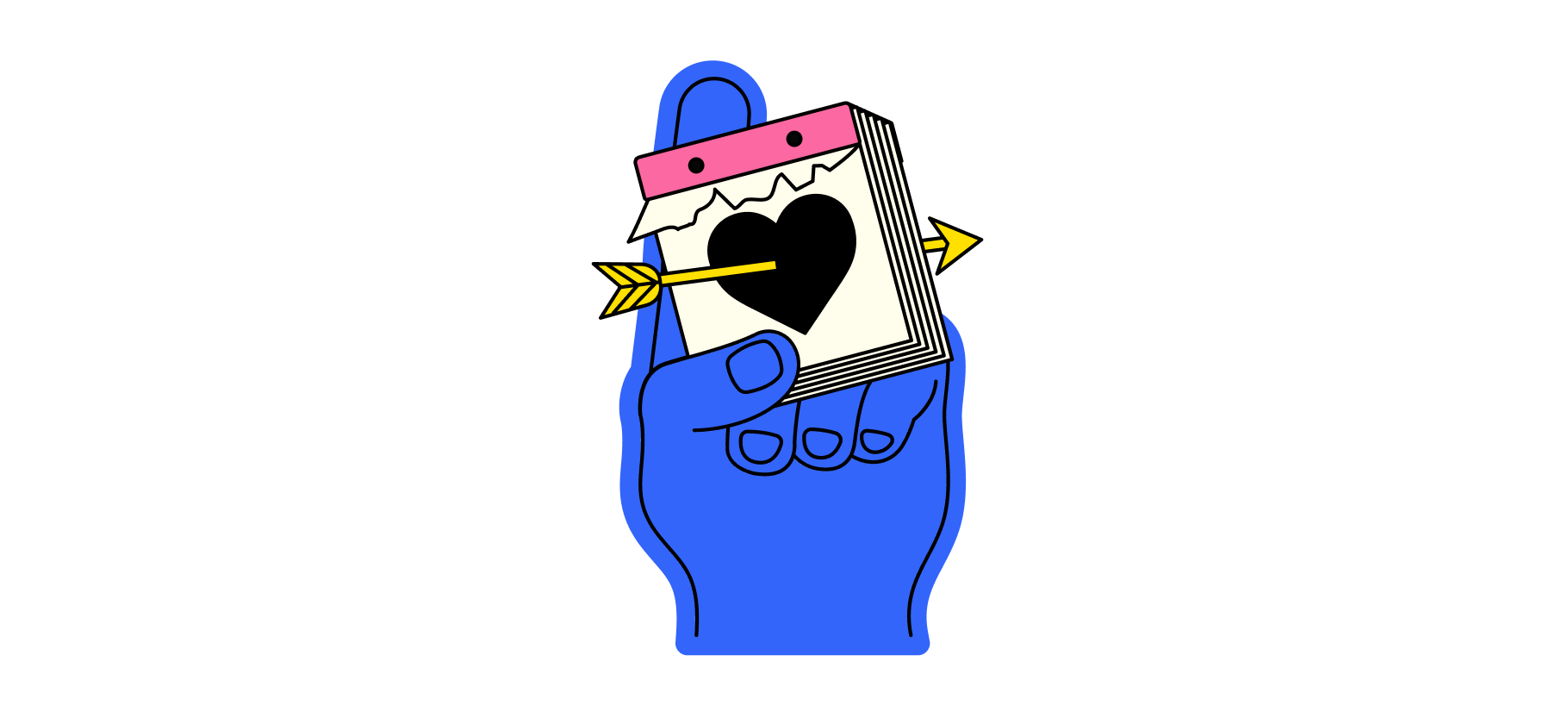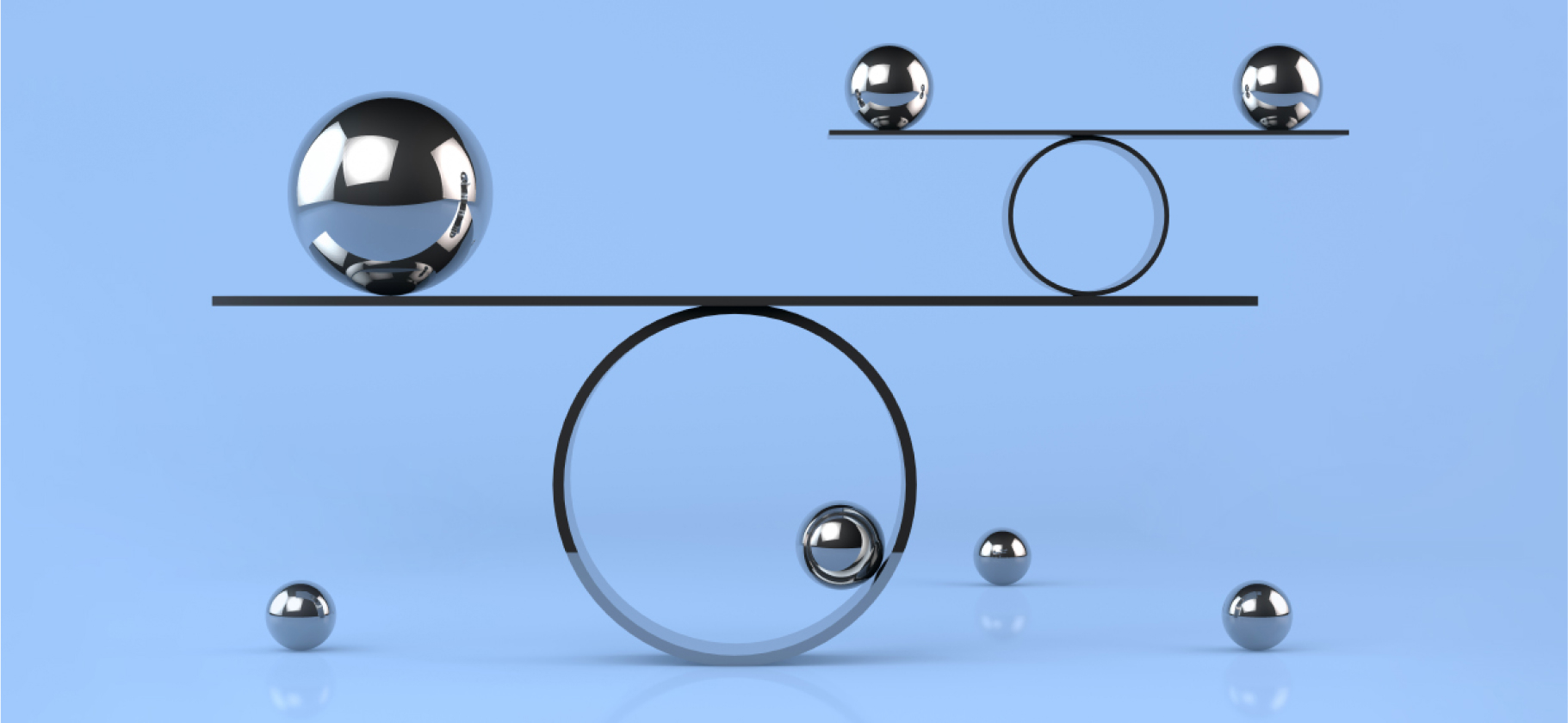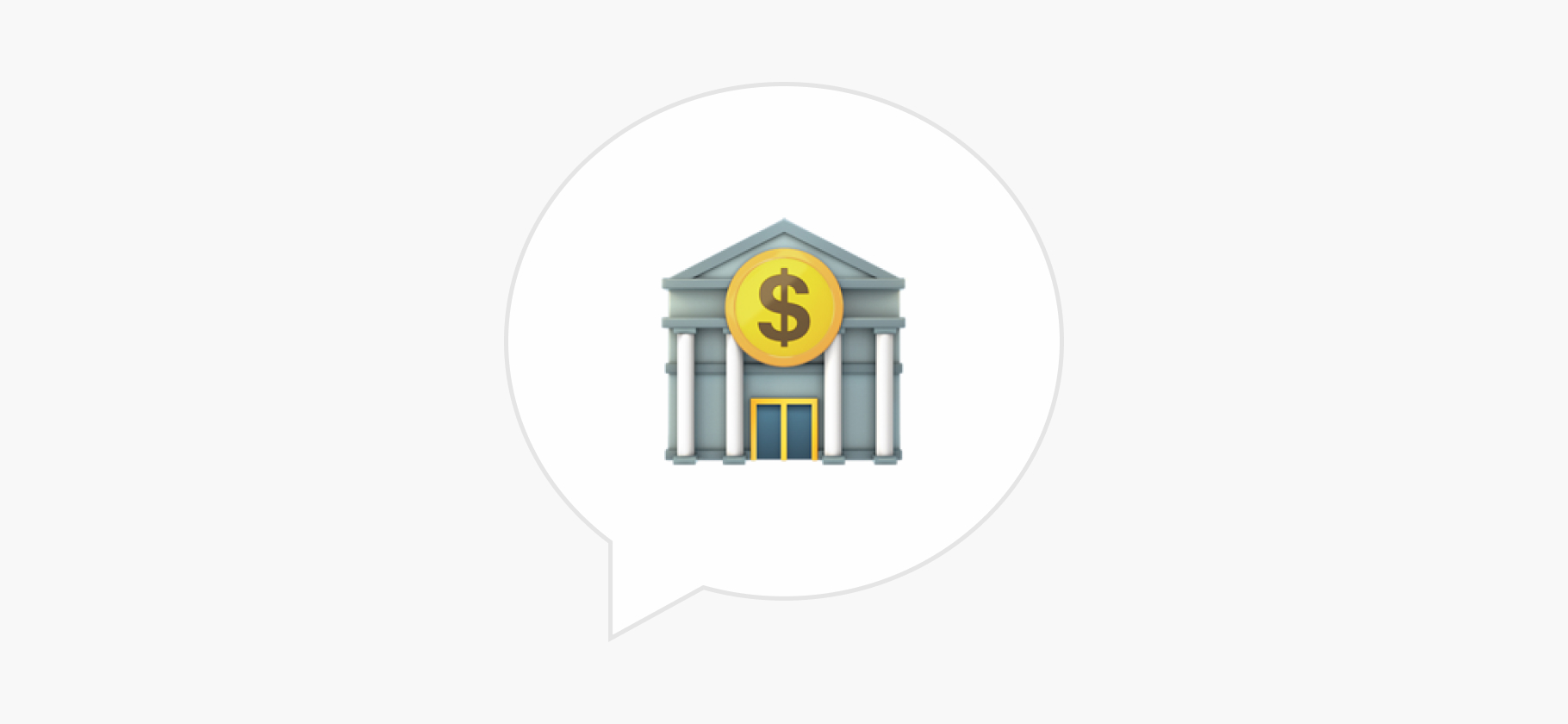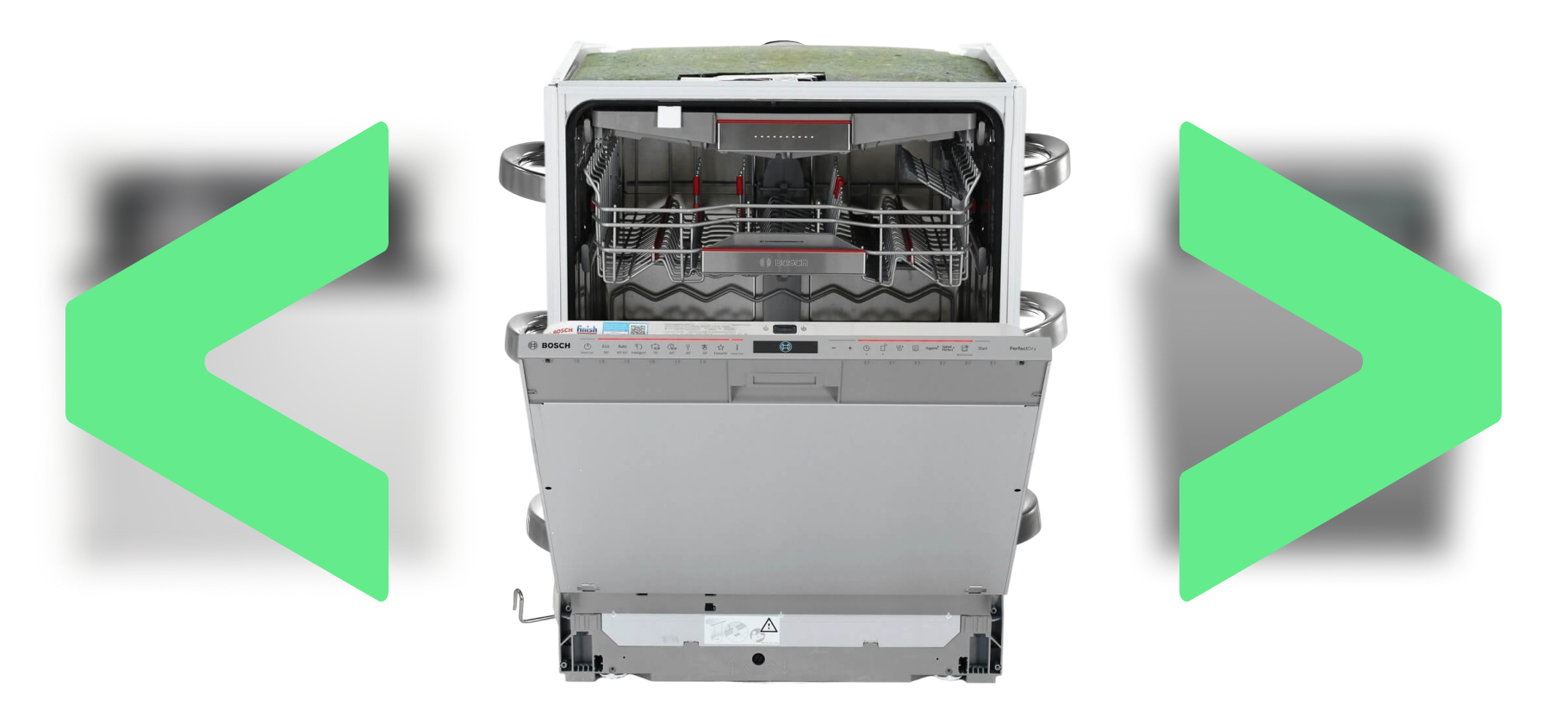Гиперполиглоты: как некоторым удается выучить больше десяти иностранных языков
По данным Skyeng, больше половины россиян используют только один язык — русский, 34% знают также английский и всего лишь 13% учат три языка.
Однако данные этого опроса не учитывают редкую категорию людей — полиглотов, которым известно больше четырех языков. И тем более — так называемых гиперполиглотов: в их запасе — больше десяти языков. О том, как учат языки такие люди и в чем предполагаемые причины их необычной способности, мы рассказываем в третьем эпизоде подкаста Т—Ж «Суперсилы». А это его текстовая версия.
Что вы узнаете
Кто такие гиперполиглоты
Американке с российскими корнями Сюзанне Зарайски снятся сны на арабском. Это один из двенадцати языков, которые она учила в жизни. На восьми из них она говорит свободно: на английском, французском, испанском, итальянском, португальском, боснийском, русском, а также на ладино — варианте испанского языка, на котором говорили евреи, изгнанные из Испании в 15 веке.
Еще четыре языка Сюзанна знает поверхностно или почти не знает. Один из них — арабский. Она изучала его совсем немного: помнит какие-то простые слова и выражения, но не может поддерживать на нем разговор. Но ей все равно снятся «арабские» сны. Сюзанна находит удивительным то, что ее мозг создает звуки на плохо знакомом языке, пока она спит.
Всего в мире более 7000 языков. И хотя нет ни одного человека, который мог бы овладеть ими всеми, хотя бы на нескольких языках говорит немало людей. По данным исследователей, около половины населения планеты применяет в повседневной жизни два или больше языков.
Обычно речь идет о двух-трех языках — это билингвизм и полилингвизм. Но в некоторых уголках Земли распространено большее многоязычие. Например, в Швейцарии четыре государственных языка: немецкий, французский, итальянский и романшский, в основе которого — простонародная латынь. Некоторые швейцарцы свободно владеют каждым из них. А вдобавок еще и английским как международным языком общения — выходит уже пять.
Если же такой швейцарец знает хотя бы еще один язык, то он, по определению лингвиста из Университетского колледжа в Лондоне Ричарда Хадсона, гиперполиглот.
Хадсон предложил этот термин больше двадцати лет назад. Он считает, что знание шести и более языков выходит за рамки возможностей как среднестатистического человека, так и тех, кого мы называем полиглотами.
Не все специалисты согласны с таким определением терминов «полиглот» и «гиперполиглот», поскольку знание 5—6 языков встречается не так уж редко. «Те, кто владеет татарским, русским, очень часто эти люди владеют потом еще и турецким, и башкирским, потому что это близкие языки, — объясняет в интервью Т—Ж Нина Здорова. Она курирует проекты по билингвальной языковой обработке и чтению в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ. — Это уже четыре языка, потом добавляется школьная программа: английский, немецкий. Вот вам шесть языков».
Американский лингвист и журналист Майкл Эрард тоже считает, что людей, знающих несколько языков, не так мало, как принято думать. В 2012 году он написал книгу «Феномен полиглотов», для которой провел несколько опросов.
Многие из опрошенных им знали пять языков. Существенно меньше утверждали, что знают семь языков. Но на цифре десять ситуация драматически изменилась. Людей, владеющих таким количеством, были единицы.
«Так что, на мой взгляд, что-то происходит на уровне 10 или 11 языков», — комментирует Т—Ж свои наблюдения Майкл Эрард. Он считает: гиперполиглоты — это те, кто пересекает эту границу. Их немного, но сколько именно — неизвестно, потому что этот вопрос плохо изучен.
Среди специалистов также нет единого мнения о том, насколько хорошо нужно говорить на языке, чтобы считаться знающим его.
«Трудно сказать, что значит „говорить на языке“, — объясняет Майкл. — Язык — это не метр, не килограмм, это не единица измерения в прямом смысле. Так что на уровне 10 или 11 языков что именно вы измеряете?»
Эрард наблюдал следующую картину: те редкие люди, которые утверждали, что владеют 15—20 языками, на самом деле не говорили на всех из них свободно. Как правило, действительно хорошо они знали от пяти до восьми языков. Примерно столькими свободно владеет Сюзанна Зарайски, которой снятся «арабские сны».
Остальные языки человек когда-то изучал, что-то сохранил в памяти и при желании мог восстановить. Но одновременно активировать и использовать он может лишь ограниченное количество.
«Оказалось, что гиперполиглоты, которых я встречал, не имели всех своих языков на уровне C2. Но они все равно были очень интересными, потому что у них было несколько языков на уровне C2, а затем у них были языки, знаете, несколько языков на уровне B1, а еще больше — на уровне A2».
Сколько языков может выучить гиперполиглот
По мнению Майкла Эрарда, у человека есть когнитивный лимит — знание примерно 10—11 языков, и свободное владение только частью из них. Этот лимит связан с ограничениями рабочей памяти. Ее еще называют оперативной — из-за ее главного свойства: она хранит информацию только временно. Так, чтобы та была сразу доступна для обработки. Поэтому человек не может быть одновременно погружен во все языки, которые изучал. Мозг ослабляет знание языков, которые сейчас не требуются. Иначе говоря, человек в теории способен освоить и больше 10—11 языков, но объем оперативной памяти помешает ему свободно пользоваться ими всеми.
В исторических документах можно встретить упоминания людей, которым приписывали знание 30 или даже 50 языков. Пожалуй, самый известный такой человек — итальянец Джузеппе Меццофанти.
Он родился в 1774 году в семье обычного плотника. Согласно одной из легенд, Джузеппе помогал отцу и часто работал на улице рядом с окном школы. Он слушал уроки греческого и латыни и вскоре начал запоминать языки, хотя не знал алфавита — ни греческого, ни латинского. Когда о такой тяге к знаниям стало известно, его зачислили в школу.
Впрочем, другие источники говорят о том, что Меццофанти ходил в школу с двух лет, так как родители стремились дать ему хорошее образование.
Так или иначе, Джузеппе стал учиться под руководством монахов, поступил в архиепископальную семинарию, окончил ее, принял постриг и стал преподавателем, а потом — помощником библиотекаря. И не просто библиотекаря, а главного хранителя Ватиканской библиотеки. Потом он и сам стал главным хранителем, знаменитым ученым и кардиналом-священником. Это дало ему возможность читать самые разные книги и общаться с людьми, которые приезжали со всего мира.
По свидетельствам современников, Джузеппе Меццофанти знал около 30 языков, в том числе и русский. Некоторые приписывают ему еще более обширные познания. О его суперспособности к освоению языков сохранилось много исторических анекдотов.
Один из них связан с лордом Байроном. Считается, что этот английский поэт сам был полиглотом: говорил на греческом, французском, итальянском, немецком, латыни и немного на армянском, а также на родном английском. Он состязался с Меццофанти в ругательствах на разных языках — и проиграл. После чего с восхищением называл кардинала «монстром».
«Меццофанти — интересный персонаж, потому что у него явно был дар, и он мог очень легко учить и запоминать слова, — рассказывает Майкл Эрард, который подробно изучил биографию Меццофанти. — Но по мере того как он становился старше и знакомился со все большим количеством языков, это давалось ему все труднее. И он научился осваивать какие-то формальные способы общения».
Формальные способы общения — это, например, шаблонные фразы вроде «Привет, как ты?». Или пара шуток и стихотворений. Вкупе со способностью читать на том или ином языке, пусть и со словарем, это создавало впечатление, что Меццофанти знает его. Но с точки зрения современного человека такое поверхностное знание нельзя считать владением языком. Люди вроде Меццофанти — не только порождение культуры другой эпохи, но и миф.
«Он был кардиналом, так что у него была власть и авторитет, и никто не сказал бы ему: „О, ты не можешь, ты подделка, ты не можешь действительно делать то, что ты говоришь, что умеешь,— говорит Эрард. — К тому же он был духовным лицом, а церковь всегда хочет, знаете, как-то „раздувать“ масштаб своих представителей, это как часть пропаганды, как своего рода инструмент продвижения».
Однако Меццофанти, судя по всему, действительно знал много языков. Пусть и меньше, чем ему приписывали, и хуже, чем считалось. В отличие от некоторых наших современников, которые на самом деле только притворяются полиглотами.
Один из них — Зиад Фазах, который считался мировым рекордсменом до 1997 года. Он утверждал, что может говорить и читать на 58 языках, и смог продемонстрировать знание некоторых из них в прямом эфире телевидения. После этого в Книге рекордов Гиннеса появилась запись о нем.
Однако через пару лет Фазаха пригласили на еще одно телешоу и протестировали, и он показал не просто поверхностное знание языков, на которых якобы говорил, а их полное незнание. Испанский, финский, русский, китайский, персидский, хинди, греческий — Фазах не ответил приглашенным носителям ни на один простейший вопрос на этих языках. Например, добровольцы спросили «Как долго вы собираетесь оставаться в Чили?» на греческом и «Какой сегодня день недели?» на русском. И не получили адекватного ответа.
Фазах понял только родной арабский. Так что после провала на телешоу все упоминания о нем исчезли из Книги рекордов Гиннеса.
Настоящие гиперполиглоты не всегда стремятся ставить рекорды или быть на слуху. Например, Александер Аргуэльес не любит выступать на публике. Он занимается изучением языков не ради славы, а потому, что хочет читать литературу в оригинале. Еще ему хочется понимать, что говорят люди, если он идет по улице и слышит иностранную речь.
Жизнь Аргуэльеса полностью связана с языками. Он лингвист — специализируется на корейском языке и в совершенстве им владеет. Еще он свободно говорит, читает и пишет на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, голландском, каталонском и шведском.
Вместе с родным английским получается 10 языков, что равно когнитивному лимиту, отмеченному Майклом Эрардом. Но это только те языки, на которых Аргуэльес говорит бегло. В целом он изучил около 60 языков. Некоторые — довольно поверхностно, и не скрывает этого.
В среднем Аргуэльес тратит на изучение языков девять часов в день, а когда ему было 20, мог потратить и все шестнадцать. Сейчас ему за 60 лет. Майкл Эрард подсчитал, что Аргуэльес посвятил 40% своей жизни освоению языков.
Знание шестидесяти языков, даже поверхностное, впечатляет. Но, возможно, и это не предел человеческих возможностей. «Если вы спросите большинство лингвистов, они скажут, что теоретически можно учить языки бесконечно, если у тебя есть достаточно времени, — говорит Эрард. — Но мы не живем вечно, и мы не живем в гипотетическом мире. Мы живем в реальном мире. Так что, учитывая реальные ограничения времени, сна, старения, и, скажем, когнитивных способностей… Сколько языков возможно выучить?»
Ответ Эрард нашел, когда узнал про конкурс, который провели в Бельгии в 1980-х. Там искали самого многоязычного европейца. Участники сначала говорили организаторам конкурса, сколько языков знают. После короткого интервью на нескольких языках их приглашали на тестирование в Брюссель. Там их ждали разговоры с судьями-носителями.
Конкурс выиграл британец, показав хорошее знание 22 языков — вдвое больше когнитивного лимита в 10—11 языков, установленного Эрардом.
У этого британца интересная судьба. Он уехал в Германию и работал там учителем немецкого, потом женился на русской, вернулся на Шетландские острова. Это уединенное место, но там есть порт. Так что в городе всегда много моряков со всего мира, с которыми можно было тренироваться в использовании языков. Еще он проводил экскурсии для туристов и преподавал некоторые из известных ему языков, и это помогало ему не терять знания.
Как гиперполиглотам удается знать так много языков
Истории победителя бельгийского конкурса и Александера Аргуэльеса показывают: чтобы знать множество языков, нужно много трудиться. Как говорит Майкл Эрард, гиперполиглотами не рождаются, а становятся. Да, мозг гиперполиглотов обладает неким пока не изученным качеством, которое позволяет им оперировать огромным массивом данных. Но без правильной среды и тренировки этот потенциал останется нереализованным.
При этом ученые замечают: языковая виртуозность, возможно, передается по наследству. Александер Аргуэльес — ребенок полиглота. Как и одна из первых синхронных переводчиков, Като Ломб. Она профессионально работала с 16 языками и бегло говорила на 10 из них — в том числе и на русском. Като — еще один пример человека, преодолевшего когнитивный лимит Эрарда.
Исследователи пытаются выяснить, какие гены отвечают за экстраординарные способности к освоению языков. Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона Софи Скотт обнаружила дополнительный участок серого вещества в слуховой коре некоторых фонетиков — людей, которые тонко разбираются в звуках речи. И этот дополнительный участок не появляется у них в процессе обучения. Они рождаются уже с ним.
Другое исследование провела когнитивный нейробиолог из Массачусетского технологического института, американка российского происхождения Эвелина Федоренко. Вместе с коллегами она наблюдала за активностью мозга нескольких десятков гиперполиглотов. Среди них была и Сюзанна Зарайски (сайт недоступен из РФ), та самая американка, что видит сны на арабском. Она стала 23-й участницей исследования.
Ради науки Сюзанне пришлось лечь в аппарат фМРТ. Находясь внутри, она надела наушники и прослушала записи речи на разных языках. Одни языки она отлично знала и понимала, вторые — только частично, обрывками, третьи — были совершенно ей не знакомы.
Пока Зарайски вслушивалась в речь, играющую в наушниках, ученые наблюдали, что происходило с кровотоком в ее мозге. Это позволило им определять, какие области становятся активны в ответ на знакомые, малознакомые и совершенно незнакомые слова.
Затем исследователи сравнили данные по людям, говорившим только на одном языке. И заметили разницу: мозг человека, который обладает языковой виртуозностью, задействует в процессе восприятия меньшие площади и так экономит энергию.
Эти данные подтверждают мнение Майкла Эрарда: гиперполиглотами при определенных условиях становятся те люди, чей мозг изначально работает немного иначе, чем мозг среднестатистического человека. По мнению Эрарда, обычный человек без предрасположенности к освоению языков вряд ли станет гиперполиглотом. Скорее всего, его предел свободного владения — 5—6 языков.
Но определить, есть ли у человека эта предрасположенность, не так-то просто. «У правительства США есть система обучения людей разным языкам для дипломатических целей, — говорит Майкл Эрард. — И что они обнаружили, так это то, что тесты, которые они дают людям для первоначальной проверки способностей, не всегда предсказывают долгосрочные результаты. Тест в основном позволяет выбрать человека, который может быстро достичь уровня A2. Но он не скажет тебе ничего о том, кто может достичь уровня C2».
Тем не менее человек без выдающихся талантов в области языков может позаимствовать у гиперполиглотов их принципы обучения. Правда, методы различаются.
Например, Александр Аргуэльес слушает аудиозапись на языке и повторяет ее одновременно со спикером, пока гуляет на улице. Не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, он слушает язык, говорит очень громко и двигается одновременно.
«Есть какое-то когнитивное основание для этого, потому что, знаете, мы не воспринимаем язык как что-то, связанное с телом, но это так: это моторная деятельность, — объясняет Майкл Эрард. — Нам нужно двигать челюстью, языком, делать что-то с лицом, глазами, даже дыханием и руками. И ходьба — это способ стимулировать моторные центры мозга, чтобы они становились более восприимчивыми к обучению этому другому моторному паттерну — производству звуков».
Совсем другой подход, скорее всего, применял Джузеппе Меццофанти. Эрард обнаружил это, изучая вещи кардинала для своей книги. «Я открыл коробку, которая была помечена как „разное“, — вспоминает он. — Открыл ее, и там были такие маленькие листочки с одним словом на одном языке с одной стороны, а с другой стороны — на латинском, французском или итальянском. И было понятно, что это его флеш-карточки, Так что у него были вполне знакомые способы заучивания, которые люди используют и сегодня».
Другой гиперполиглот, немецкий переводчик и дипломат Эмиль Кребс, живший на рубеже 19 и 20 веков, использовал более эксцентричный метод. Он заучивал языки, разгуливая по своему кабинету ночью без одежды. Считается, что он говорил и писал на 68 языках, а в целом изучал 120 языков, то есть даже больше, чем легендарный кардинал Джузеппе Меццофанти.
Более привычный метод изучения языков использует полиглот из Турции Иджлаль, которая имеет все задатки гиперполиглота и в 20 лет знает уже 9 языков, в том числе русский. Все эти языки она выучила самостоятельно.
Главный источник знаний для нее — подкасты. Она открывает «Ютуб» или «Спотифай» и ищет выпуски на новую для себя тему — на языке, который сейчас учит. Потом она просто неоднократно слушает эти выпуски и имитирует то, что говорят, чтобы ее русский звучал естественнее.
В изучении грамматики Иджлаль тоже помогает «Ютуб». Для нее важно, что она может сама находить уроки и проводить их в своем темпе, не завися от учебных планов и расписаний. Она считает: ее успехи в изучении языков связаны именно с тем, что она смогла построить обучение вокруг собственных интересов и потребностей. Для нее важно слушать материал и повторять то, что она услышала, — и она это делает.
Учить язык по подкастам любит и Екатерина Кузнец, переводчица из Эстонии, которая на разном уровне владеет 12 языками. Она считает себя аудиалом и постоянно слушает что-то на других языках, когда гуляет. Но она не чурается стандартных методов изучения и любит учебники, читать художественную литературу или учиться вместе с репетитором или в группе.
«Очень сильно мне нравится учиться чему-то, связывать изучение языка с тем, что я сильно люблю в жизни, — говорит Кузнец. — У меня есть такой, например, опыт в корейском языке, где я изучала корейскую кухню, где мы вместе готовили. В корейском ресторане слушали, как повар дает инструкции на корейском языке».
Обычно Екатерина выбирает два-три языка и одновременно активно изучает их, остальные же поддерживает на прежнем уровне. Первый язык — тот, которому она уделяет больше всего времени и сил. Второй нужен «для души». «Если учить один только язык, я могу легко перегореть, — рассказывает Кузнец. — И не захотеть уже учить ничего».
У Сюзанны Зарайски тоже есть свой метод. Она учит языки, вслушиваясь в музыку и тексты песен. «Мы все знаем, каково слышать песни из своего детства, и мы точно помним, где мы находились и как себя чувствовали, когда впервые услышали их, — объясняет она. — Но мы можем не помнить, что было в нашем списке покупок вчера. Все потому, что музыка влияет на наши эмоции, а еще активирует большую часть нашего мозга, чем язык. Так что если вы услышите что-то в гармонии или мелодии, вы запомните эти слова лучше, чем если просто прочтете их в книге».
В каком-то смысле именно песни подтолкнули Сюзанну к тому, чтобы изучать языки. Она родилась в СССР, а в трехлетнем возрасте переехала с родителями в США. В школе к русскому и английскому добавились французский и испанский. А вот все остальные языки она выучила по своему желанию уже после школы. Однажды Сюзанна услышала, как туристы из Италии что-то напевают. Ей захотелось петь так же, и она начала учить итальянский, а затем еще семь других языков.
При этом Зарайски признается, что с трудом может расположить буквы русского языка в алфавитном порядке, хотя русский — ее родной язык. Проблемы с алфавитом она объясняет тем, что никогда не заучивала песни о порядке букв в русском, которые родители и учителя обычно включают детям.
Сюзанна говорит, что большинство знакомых ей полиглотов осваивают языки через учебники. Ей такой подход не по душе, и она верит, что многим людям больше подходит изучение языков через музыку, и написала книгу «Язык — это музыка». Чтобы выучить новый язык, она советует действовать по такой схеме:
- Найдите музыку, которая вам нравится. Слушайте тексты песен и просто наслаждайтесь ими. Не пытайтесь понять каждое слово.
- Послушайте текст песни. Запишите текст песни, который, как вам кажется, вы слышите, и сравните его с фактическим текстом.
- Найдите караоке-версии любимых песен. Пригласите своих друзей, которые знают язык, на вечеринку и попробуйте спеть песни с ними вместе.
«Пой, детка, пой!» — призывает Сюзанна.
Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine