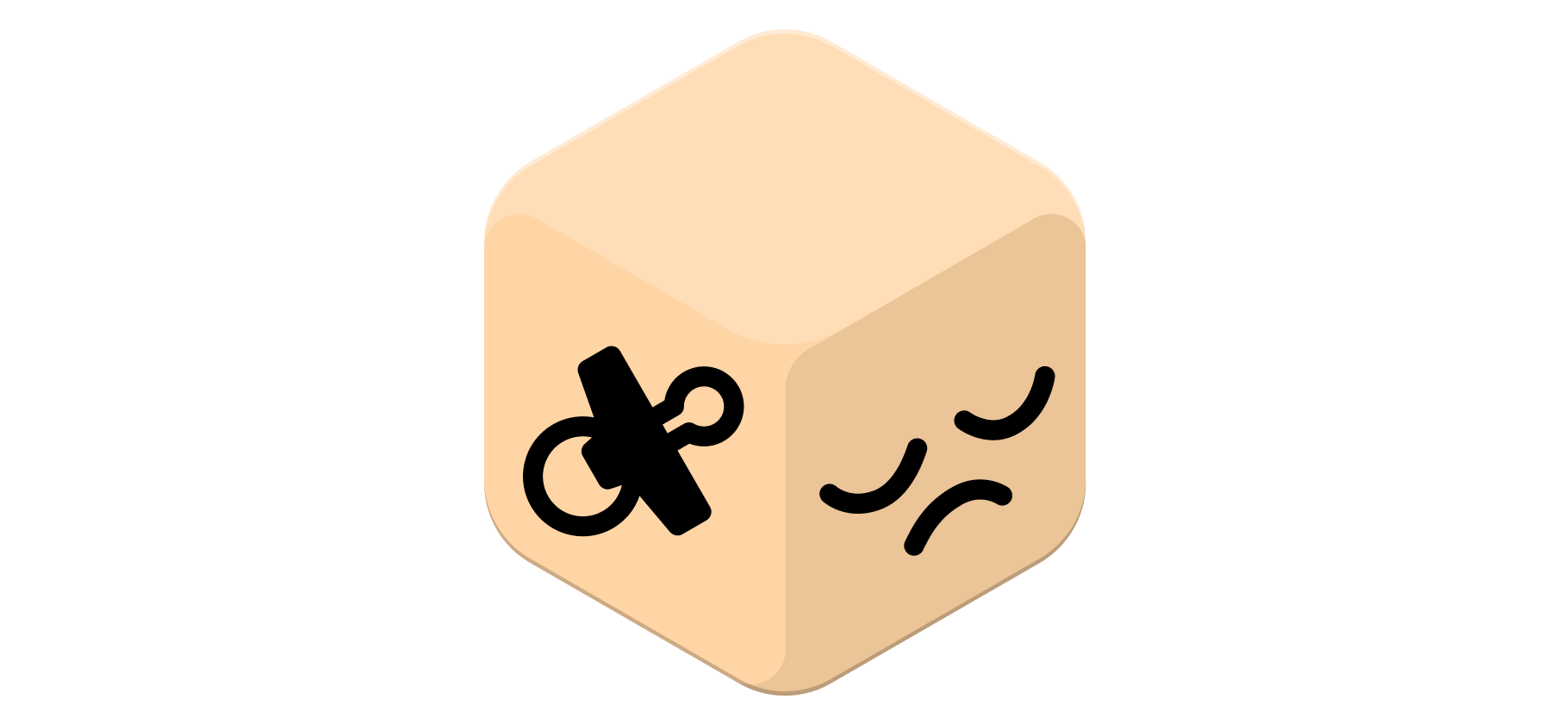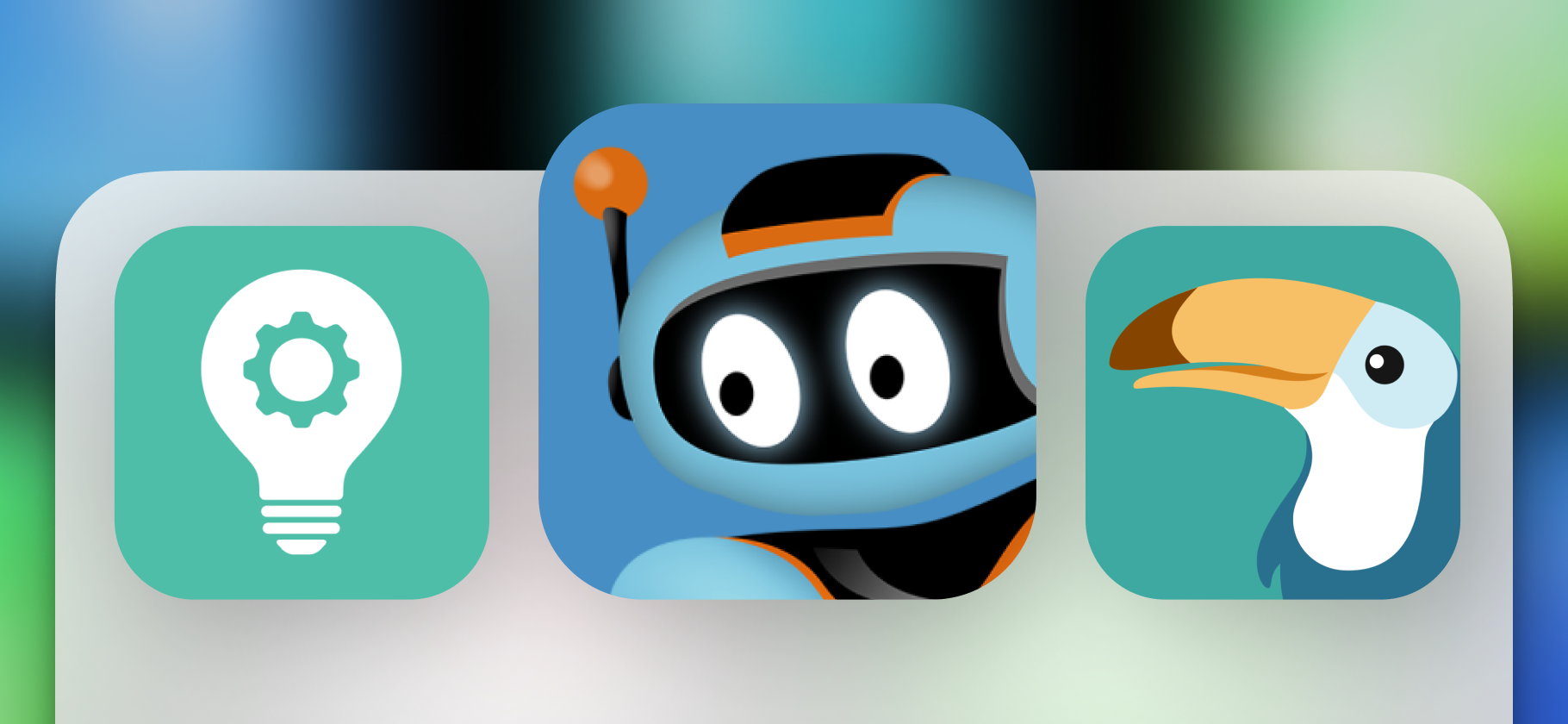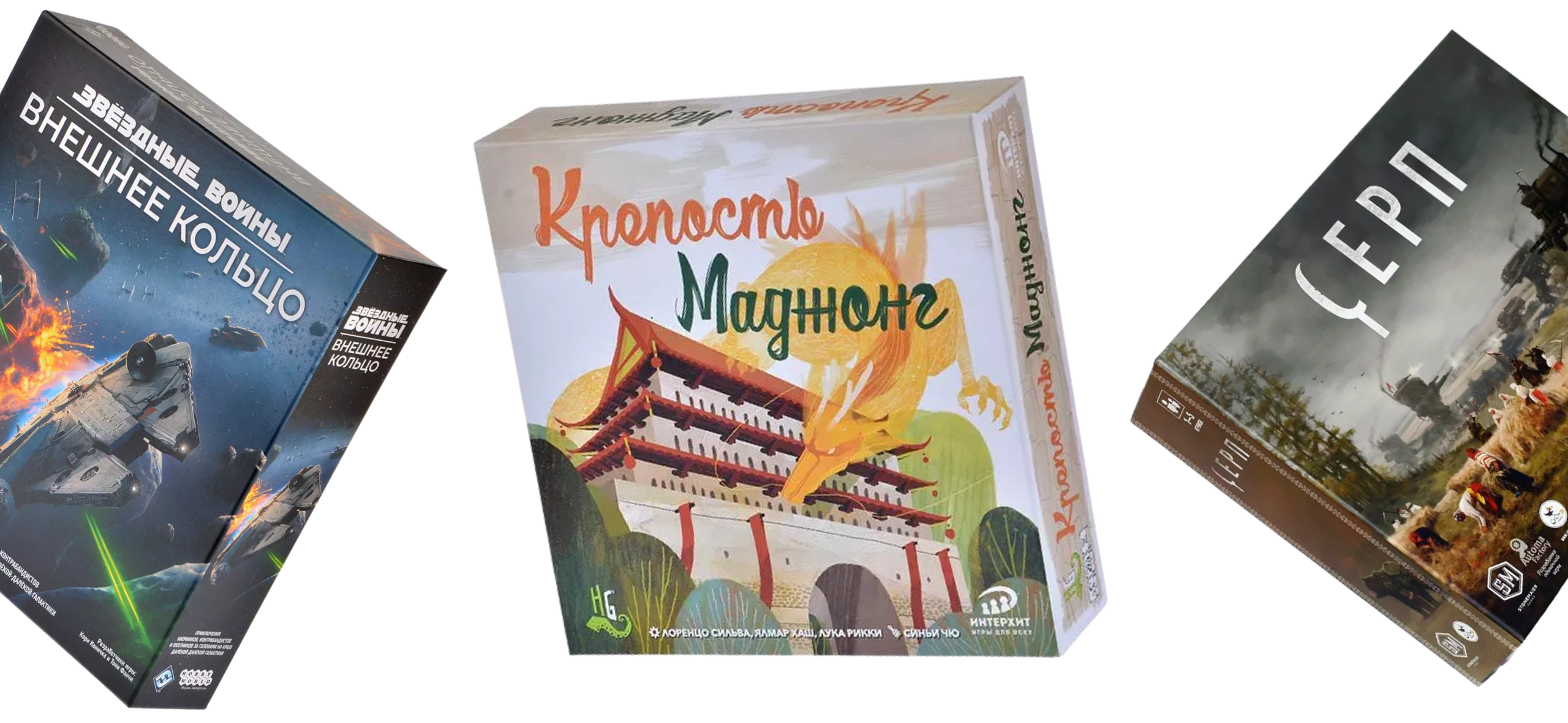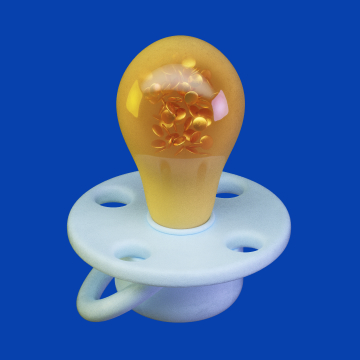
«Ребенку важно общество»: чем хороша инклюзивная среда и почему нужно ее развивать
Когда в семье растет ребенок с особыми потребностями, не так просто добиться для него нужных образовательных условий.
В июне 2025 года в университете «Сириус» директор института коррекционной педагогики Татьяна Соловьева предложила лишить родителей права выбора формы образования и школы для своего ребенка, а инклюзию назвала излишней. Это может значить, что детей с особенностями развития будут обучать только в коррекционных школах.
Родители детей с особыми потребностями и НКО создали петицию против такой инициативы. А в Минпросвещения ответили, что за семьями оставят возможность выбирать, как и где будет учиться ребенок. Мы поговорили о важности инклюзивного образования с членом координационного Совета по делам детей с инвалидностью при Общественной палате РФ, председателем правления Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анной Битовой.
Вы узнаете
- Чем инклюзивное образование выигрышно для детей и педагогов
- Почему не стоит опасаться, что в инклюзивной среде дети без нарушений могут недополучить знаний и внимания
- Как можно оценить уровень развития инклюзивного образования в России
- Что делать, чтобы добиться нужных образовательных условий для своего ребенка
- Как организован хороший ресурсный класс и другие формы инклюзии
- Правда ли, что ребенку с нарушениями некомфортно среди нормотипичных детей
- В каких случаях выбор спецшколы обоснован
- Как лучше развивать инклюзию и почему это нужно делать
- Почему важно оставить родителям право выбора формата обучения
— Что такое инклюзивное образование? Почему оно может быть наиболее предпочтительным для детей с особыми потребностями — по сравнению с коррекционными школами?
— В системе коррекционных школ есть много хорошего. Это то, что долгие годы строили и у нас, и на Западе. Но основная проблема спецшкол в том, что в них у детей недостаточно условий для роста.
Как-то я консультировала школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи на 300 учеников. И я сказала их директору: «У вас очень хорошая система преподавания, грамотные специалисты. Но в результате вы принимаете детей с тяжелыми нарушениями речи. И выпускаете детей с тяжелыми нарушениями речи. Потому что нет речевого образца. У большинства учеников вокруг трудности с произношением. И конкретному ребенку незачем тянуться».
В этом плане инклюзия, то есть совместное обучение детей с нарушениями и без них, очень полезна и выигрышна. Это подтверждают многочисленные исследования.
В инклюзивной среде ребенку с особенностями развития проще понять социальные правила и роли, получить адекватный социальный пример. А значит, потом ему будет легче справляться с адаптацией к обычной жизни: он знает, как вести себя в коллективе, на улице и так далее.
Скажу по опыту, что все-таки самые продвинутые ребята — те, у кого есть опыт инклюзивного образования. Так было даже в те времена, когда еще не было никакой поддержки и закона об образовании, а родители просто решили, что отправят ребенка в общеобразовательную школу. Они потом целыми днями помогали своим детям, учили с ними уроки. Но социальный выхлоп был гораздо выше: этим ребятам удалось поступить в обычные колледжи, у них было больше шансов устроиться на работу, потому что они стали более самостоятельными.

Когда есть инклюзия, дети с нарушениями не оказываются изолированными от общества и становятся его частью. Они могут завести друзей в обычном социуме. Специальные школы не могут быть в каждом дворе. А когда ты ходишь в общеобразовательную школу у дома, ты общаешься с теми ребятами, которые живут рядом. Ты не уходишь из социума, а заводишь контакты, чувствуешь себя частью общества.
Приведу пример. Мой друг много лет работал в Канаде в инклюзии. Он рассказывал, что мы на самом деле недопонимаем ее социальные последствия и их важность. В Канаде инклюзия обязательна. Там нет специальных школ, все учатся вместе. И вот мой знакомый вспоминал одного парня, Джона, скорее всего, с интеллектуальными нарушениями, который тем не менее учился в общем классе. Уроки, с которыми он не справлялся, проводили для него отдельно, а остальное он осваивал вместе со всеми.
После школы он устроился на работу — с сопровождением наставника : вместе с бригадой рабочих, под присмотром, облагораживал клумбы. И вот этот Джон работает на улице. Мимо едет машина, останавливается. И парень, который учился с ним в одном классе, открывает окошко, здоровается. То есть они знакомы, у них есть что-то общее.
Вот в чем смысл: Джон не будет изолирован как какой-то не такой человек.
Очень легко начать кого-то изолировать. Мы знаем много исторических примеров. Сегодня ты изолируешь психически больных, потом — людей с определенным цветом кожи. Кого дальше и где край?
Человек с тяжелыми нарушениями вряд ли пойдет в инклюзию, просто потому что и родители, скорее всего, не захотят, и он не потянет обучение, и школа не справится. Для таких детей — их мало, 5—10% из всех детей с нарушениями — все равно придется делать специальные школы.
Потому что ребенку нужно больше поддержки, спокойный, организованный процесс в совершенно в другом темпе. А тем, кто мог бы подтянуться за остальными, было бы хорошо учиться в инклюзивной среде. По крайней мере, попробовать. Даже проучившись два-три года в обычном классе, ребенок будет по-другому себя чувствовать. Потому что он будет понимать, как люди общаются друг с другом.
Для нормотипичных детей это тоже ценный социальный опыт — возможность общаться с разными людьми и усваивать общечеловеческие ценности . Я помню одного нормотипичного мальчика, который учился в инклюзивной школе. У них в классе было несколько детей с расстройством аутистического спектра, РАС, — нарушением развития, при котором человеку сложно даются социальные взаимодействия и коммуникация, а также у него ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения и интересы. Я спросила этого ребенка, как он себя ощущает. И он ответил, что у них очень симпатичный тьютор , который играет с детьми на перемене.
Как известно, учителя обычно ни с кем не играют, у них нет на это времени и ресурсов. А тут можно было пообщаться. Мальчик получал моральную поддержку, которая для него оказалась существенной и значимой.
А еще этот ребенок ощущал свою несколько наставническую роль по отношению к детям с РАС. Он говорил, что помогает им: «Когда кто-то возбуждается, я могу успокоить». Это важно, это опыт поддержки другого человека. Такое в жизни очень пригодится.
Для педагога работа в инклюзивной школе тоже очень интересна: это своего рода вызов, потому что сложно. Надо постараться и построить урок так, чтобы ребенок с особенностями развития тоже был включенным и смог освоить материал. Но мне кажется, что такая задача делает преподавание веселее. А еще в классе двое взрослых: учитель и тьютор или учитель и ассистент. Получается, есть небольшая команда и можно вместе решать проблемы всех детей.
— Родители нормотипичных детей иногда переживают, что если класс инклюзивный, значит, учителя будут ориентироваться на отстающих и все остальные получат меньше знаний. Стоит ли об этом волноваться?
— Возьмем любой класс: кто-то все равно будет самым слабым. Если убрать детей с ОВЗ , обязательно найдутся те, кто не справляется. Так происходит всегда. Это человеческое разнообразие. А дальше уже вопрос педагогических технологий, умения учителя построить урок.
Некоторые педагоги в обычных неинклюзивных классах ориентируются на самых слабых. Тогда эти дети более-менее продвигаются вперед, а самым сильным становится скучно. Это неправильно. Поэтому надо проводить урок так, чтобы интересно было всем. То есть это сугубо дело техники. Если учителю нравится его работа, он выстроит урок так, чтобы все могли делать то, что им по силам.
А еще мне кажется, что современная школа в первую очередь должна научить ребенка учиться, а не давать знания как таковые. Задача школы — объяснить, как можно что-то узнать, понять, где найти информацию, как удерживать социальные связи «учитель — ученик», «ученик — ученик» и другие. В этом смысле, на мой взгляд, инклюзия не может чему бы то ни было помешать.
Кроме того, все люди очень разные. Люди с особенностями развития тоже разные. Есть много школьников с нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведения — например, это дети с РАС. Тем не менее у них могут быть высокие и даже сверхвысокие способности к какому-то предмету. На уроке математики этот ребенок может быть успешен, а, например, с письмом он не в ладах. Тогда письмом с ним будет заниматься отдельно тьютор или ассистент, так как ученику это удобнее.
Или наоборот: я знаю мальчика, который пишет рассказы, сочиняет сценарии и на уроке литературы он совершенно на месте, а с математикой у него проблемы.
А еще у людей с РАС часто бывает так называемый специальный интерес — интенсивный фокус на какой-либо теме. Кто-то интересуется динозаврами и знает о них больше всех нас. Кто-то — транспортом. Можно этим пользоваться. Это сделает уроки увлекательными. И это сделает общение с такими детьми интересным для других ребят.
— Хорошо ли развито инклюзивное образование в России?
— С инклюзией есть проблемы. Если бы все работало так, как прописано в законе, тогда и вопросов, наверное, не было бы. Но ситуация выглядит иначе.
Вот есть человек с нарушениями. Допустим, у него РАС, легкие интеллектуальные нарушения или гиперактивность. Он и его родители предпочитают учебу в обычной школе, в обычном классе. Но если это регион, вопрос тьюторов и ассистентов, скорее всего, стоит ребром: их может не быть. И тогда получается то, что называется дикой инклюзией: просто сажаем ребенка вместе со всеми. Учитель, терпи как можешь, и другие ребята пусть тоже терпят. И этот ученик тоже страдает от недостаточной поддержки.
Поэтому, когда мы говорим, что инклюзия — это хорошо, нужна оговорка: хорошо, когда все сделано как положено. То есть у ребенка есть ассистент или тьютор — в зависимости от того, что прописали на психолого-медико-педагогической комиссии, ПМПК. И этот специалист сопровождения обучен, понимает, как с таким ребенком работать и как построить взаимодействие внутри общего класса.
Сказать, что инклюзия во всем мире идет хорошо, нельзя. И в России тоже. Есть регионы, где она организована лучше. Наверное, это частично зависит от корректирующего коэффициента. Поясню, что это. Государство платит школе за обучение детей. Если у ребенка есть нарушения развития, школа может рассчитывать на повышенный коэффициент. И тогда на эти деньги можно нанять специалиста сопровождения, что-то дополнительно оборудовать, учитывая нужды этого ученика.
Коэффициенты определяет региональная власть. Есть регионы, где эти коэффициенты большие. Но чаще всего они маленькие. Например, за обучение ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития школы Москвы получают коэффициент 2, несмотря на то, что этим ученикам нужно много специальных образовательных условий: тьютор, дополнительные занятия, адаптированная среда.

Плюс проблема всех школ, не только в нашей стране, — адинамия. Ребенок целыми днями сидит как пришитый к стулу. Не все учителя даже на перемены детей отпускают, чтобы они в это время учились. Но это же мучение и наказание. Очень нужна физическая, эмоциональная нагрузка.
Именно поэтому, если инклюзия организована хорошо, для учеников с ОВЗ есть специальная комната сенсорной разгрузки, где можно полежать, попрыгать на батуте, переключиться. Как мы между собой говорим, перестать грузить головы, загрузить тело. Потому что голова столько не выдерживает. Это и нормотипичным детям тяжело, просто они лучше терпят.
Я помню, еще в советские времена у меня занималась девочка, которая пошла в школу, в первый класс. Было жарко. У всех вот эти шерстяные коричневые платья. И у девочки появился пролежень на руке. Переодеться во что-то более легкое не разрешали. А она очень долго сидела, не двигаясь, за партой в теплой форме. Вот насколько школа в некотором смысле довлела.
Мне кажется, что постепенно эта система должна меняться. Необходимость перемен актуальна во всем мире. Если раньше человек должен был заучивать огромный пласт материала, то теперь любой ребенок, в том числе с нарушениями, может открыть интернет и получить ответы на многие вопросы.
— Что делать, если, например, семья воспитывает ребенка с нарушениями где-то в регионе и понимает, что хорошо организованной инклюзии нет?
— Добиться чего-то в одиночку очень сложно. Ищите людей с такими же проблемами, собирайте класс и выходите на департамент или министерство образования. Говорите: «У нас столько-то человек. Будьте добры, откройте класс. Вот заключение психолого-медико-педагогической комиссии на специальные образовательные условия».
Если школа не дала тьютора, напишите письмо в вышестоящую инстанцию. Если она за месяц не ответила, обращайтесь в прокуратуру. Это нарушение права на образование. Но подчеркну: у ребенка должно быть заключение ПМПК, в котором прописан тьютор или ассистент.
Как правило, ПМПК прописывает детям с нарушениями особые образовательные условия, ассистентов, тьюторов, дополнительные занятия — в зависимости от потребностей. Но если так вышло, что комиссия не написала этого, у нее тоже есть вышестоящий орган.
У ребенка диагноз, состояние. Можно снять видео его поведения и отправить выше со словами, что вы не согласны с решением ПМПК. Родитель не обязан его слушаться. Оно носит рекомендательный характер.
Допустим, ПМПК решила, что вашему ребенку не нужен ассистент. Но он не может ходить, передвигается на коляске. Как он может в школе быть без ассистента? Как он сходит в туалет? Как достанет ручку, которая упала с парты? Ассистент точно нужен, и этого надо добиваться.
Если у родителей возникают какие-то проблемы, у нас есть сайт «Особое право». Можно описать свою ситуацию — допустим, она касается получения образования или занятости. Там есть навигатор, ответы на основные вопросы, бесплатное юридическое консультирование. Пишите — ответим.
— Как должен быть организован ресурсный класс, когда все потребности ребенка с ОВЗ учитываются?
— Ресурсный класс — это специализированный класс внутри обычной школы, где работают с детьми с ОВЗ. Конечно, это здорово, когда твой ребенок ходит, как все, в ближайшую школу и там для него созданы все условия.
Мне кажется, существенно, чтобы там были ассистенты или тьюторы. Чтобы кроме самого класса, где идет обучение, было какое-то место, куда ребенок может выйти и немного побыть один.
Но я думаю, что в идеале должно быть много разных вариантов, не только ресурсные классы. Для одного ребенка хорошо одно, для другого — другое. Например, ребенок учится в обычной школе у дома без ресурсного класса. Так хотят родители, потому что у них родился еще один ребенок, и им тяжело куда-то ездить. Старшему нужен сопровождающий. Психолог или логопед школы его на какие-то уроки забирают, а на музыке, физкультуре, рисовании он со всеми. Это тоже неплохо.
Или, например, есть дети, для которых хороша инклюзия прямо в классе, потому что они могут постоянно учиться вместе со всеми. Тогда это не ресурсный класс, а класс, где учитель готов принять ребенка с особенностями здоровья или развития, тоже с ассистентом или тьютором, и создать нужные условия.
Когда я училась, еще не было никакой инклюзии, даже намека. В каждом классе учился ребенок, который чем-то сильно отличался от остальных. Сейчас понимаю, что у этих детей просто не было диагноза. И учительница справлялась.
Или вот одна из моих учениц. У нее были проблемы с речью, которые хорошо корректировались, и проблемы со слухом. Не могу понять, почему она не была слухопротезирована, но вот так. Она пошла в обычный класс по решению мамы. Инклюзии еще никакой не было. Мама нашла учительницу, которая приняла, что у девочки есть такие особенности. Посадила ее на первую или вторую парту и фактически весь урок стояла рядом с ней. Так, чтобы она видела рот: ученица так лучше понимала речь учителя. Это было важно.
Девочка понимала, что говорит учительница, а та могла видеть, насколько все сказанное усвоено. То есть именно вот этот педагог начальной школы дал ребенку очень много. Потом эта ученица сама подтянулась, доучилась, окончила школу, сейчас замужем, есть ребенок и все в порядке. А был очень плохой прогноз. Потому что были выражены особенности слуховосприятия. Эта история про человеческое внимание, сочувствие к тому, что есть особенности.
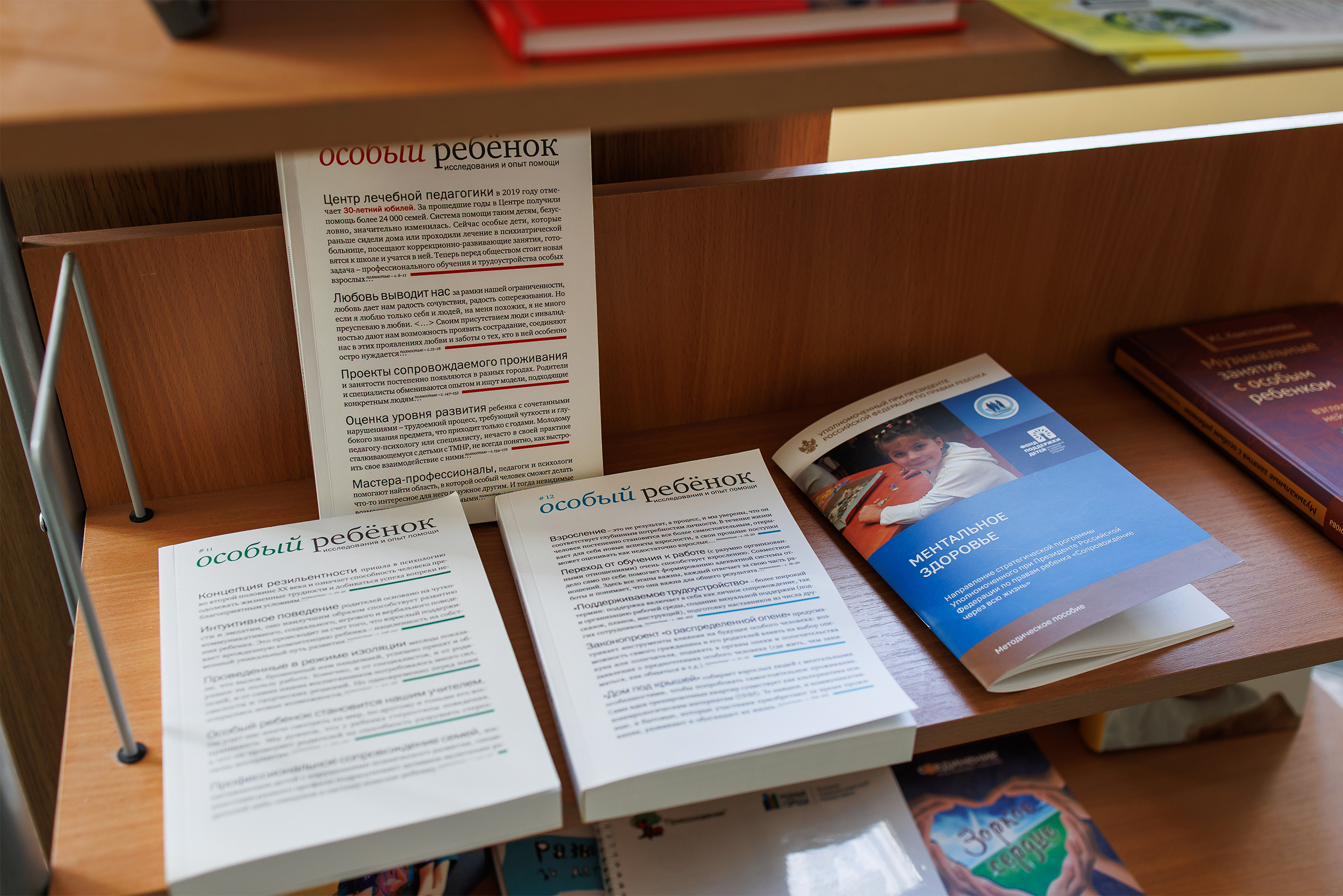
— Иногда говорят, что ребенок с нарушениями может чувствовать себя некомфортно в среде, где все дети, кроме него, быстро что-то схватывают. Действительно ли это так?
— Мне кажется, все снова зависит от человека. Все дети разные. Одному ребенку может быть некомфортно. Тогда надо подыскать для него другую школу. Другому вполне комфортно — он, наоборот, очень рад находиться в шумной компании.
Приведу редкий, но яркий пример: есть девочки с синдромом Ретта. Это тяжелое заболевание, когда человек, который до этого ходил, говорил, вдруг перестает это все делать. И вообще много функций уже не работает. Когда такие дети достигают школьного возраста, возникает вопрос, что с ними дальше делать.
Специальная школа для них бесполезна: они не потянут программу, потому что не говорят, не пользуются руками, плохо или совсем не ходят. Зато некоторым из этих девочек — я читала французскую книгу — очень хорошо в общей школе. Все вокруг бегают, разговаривают. А такая девочка может просто слушать, наблюдать за детьми и всем, что происходит. И ее это вполне радует. И остальным детям в классе тоже нормально: сидит красавица, улыбается, никому плохого не делает.
Конечно, если такая девочка в общей школе, у нее должен быть ассистент, так как ее возможности сильно ограничены. Но учителю не надо на нее отвлекаться, не нужно давать какие-то задания. Ее программа ведется вообще по-другому, с дефектологом, логопедом, с помощью дополнительной коммуникации. Этого на общем уроке не сделаешь. Ну и на общем уроке в специальной школе не сделаешь тоже. Абсолютно индивидуальная история.
Такие дети общаются с помощью специального приспособления к компьютеру. Они управляют им взглядом. Ребенок двигает глазами и может набирать текст, играть в игры. Это специальная новая технология и не очень, кстати, дорогая. И слава богу, что у таких детей появилась возможность что-то изучать. Иначе ребенок просто сидит дома.
— В каких случаях лучше выбрать спецшколу для ребенка?
— Тут снова нет универсальных советов в духе «всем черненьким туда, а рыженьким туда». Мне кажется, сначала нужно выяснить обстановку. Посмотреть ближайшие школы и понять, какие условия там есть или могут быть созданы, чтобы ребенок учился со всеми.
Хороший вариант — познакомиться, сказать: «Знаете, у меня ребенок с ДЦП, и мы бы хотели учиться тут. Он хороший». Школе надо будет нанять ассистента. Но если у родителей есть на руках заключение ПМПК, они смогут это сделать. А дальше центральный вопрос, насколько школа адаптирована: есть ли пандус, лифт или ребенок может учиться только на первом этаже.
Если ребенок с РАС, надо понять, может ли он сидеть в общем классе, даже с сопровождением. Кто-то не может. Кому-то нормально. У нас есть несколько ребят, которые учатся в общей школе с инклюзией. И для них это хороший уровень социальной адаптации.
Дальше можно выяснить, какие есть специальные школы, как долго вы будете туда добираться и что там за условия. Раньше все специальные школы были пятидневки и шестидневки. Это, конечно, плохо: ребенок шесть дней живет без родителей и теряет семейную обстановку. Но тем не менее кому-то подойдет специальная школа.
Например, если ребенку нужно, чтобы все было предсказуемо. Если ему трудно находиться в шумном коллективе: в спецшколах классы поменьше, а для детей с РАС, например, работают отдельные классы. Кроме того, у преподавателей в них есть опыт работы с такими детьми. Специальные школы тоже могут кому-то подходить.
— Бывает, родители боятся, что дети с особенностями поведения могут быть агрессивными, травмировать обычных детей. Как решается этот вопрос?
— В наш агрессивный век все бывают агрессивными. И обычные дети в инклюзивной среде по отношению к более слабым тоже не всегда проявляют терпимость. И в этом смысле, на мой взгляд, хорошо, когда школьникам прямо говорят, что у этого ребенка есть нарушения, с ним надо обращаться так-то и так-то и это будет правильно. Так проще объяснить, что такое принятие. И тем, кто до этого был жертвой травли, становится немного легче.
Я считаю, что инклюзивные школы — это тоже способ борьбы с буллингом.
Если говорить об агрессии со стороны ребенка с нарушениями, важно, чтобы он лечился, проходил коррекцию. И надо, чтобы использовались методы работы с нарушенным поведением. Пока что у нас специалисты школ недостаточно этому обучены. Мы поднимаем эту проблему перед Минпросвещения уже несколько лет. Мне кажется, что бывают ситуации, когда это очень важно.
Приведу пример. У нас есть молодой человек с нарушением поведения. Его давно выставили из школы. Он на надомном обучении, практически без социума. Дома у него есть няня, потому что мама работает.
Сначала мы долго мучились, пытаясь понять, как его встроить в общую жизнь, если он привык, что все делается так, как он хочет. Постепенно, за несколько лет, удалось приучить его к занятиям в группе детей. И когда он взрослел, к нему пришло осознание, что для него эти занятия очень важны. Сейчас с этим 14-летним парнем можно договориться. Он очень хорошо ведет себя в коллективе, соблюдает правила, никого не обижает.
Как-то я спросила его маму, почему они накануне пропустили занятие. Она ответила: он так старается быть хорошим на занятиях, что, видимо, истощился и, когда пришел домой, сломал шкаф, подрался со старшим братом. И в наказание мама не пустила его на следующее занятие, потому что он очень их ценит, для него это мотиватор. А для меня это тоже знак, насколько ребенку важно общество.

У нас есть еще один молодой человек, который пока не пользуется речью. Мы учим его общаться с помощью планшета. На планшете — кнопки, которые показывают основные его желания: пить, есть, гулять.
Парень очень быстро истощается и начинает плохо себя вести. И у него есть кнопка «побыть одному», а есть кнопка «побыть с ребятами». Он никак не мог эту вторую кнопку освоить. И вдруг в конце лагеря, который мы проводили, начал ее нажимать. И мы поняли, что для него это ценность. И ради нее он будет стараться вести себя лучше. И мы очень этому рады.
— Как инклюзию лучше развивать и почему это нужно делать?
— Мне кажется, что важны несколько пунктов.
Во всех регионах обязательно должны появиться корректирующие коэффициенты. Они есть не везде, а в некоторых регионах они очень низкие. Так, в Москве, если человек не видит или с ДЦП, коэффициент 3. А все остальные — 2. Это очень мало. Для ребенка с расстройством аутистического спектра надо 7, а может, 10, чтобы мы могли организовать ему среду, сделать уголок, где можно попрыгать, побегать, спрятаться. Чтобы был ассистент или тьютор, дополнительные занятия с психологом, дефектологом. То есть это дополнительные расходы, на которые школе нужно финансирование.
Чтобы инклюзия стала более развитой, нужно время. Она медленно, но двигается. По опыту других стран могу сказать: людям надо привыкнуть к тому, что есть и другие люди, что они не сидят за стенами в специальных школах-интернатах, а живут в обществе, учатся и работают среди нас.
Родителям нужно продолжать бороться за права своих детей. Они имеют на это право. Пускай не складывают руки и помогают друг другу.
Учителям важно учиться, искать методы, которые помогают работать с детьми с особенностями развития. Мне кажется, что нас сильно подводит именно вот этот стандартный формат урока: все сидят за партами, молча слушают, сказать можно, только подняв руку. Какая-то неестественная конструкция. Как будто мы солдат готовим. Кто-то, наверное, будет солдатом. Но все остальные будут жить обычной жизнью. И ситуация, когда я начальник, ты дурак — не самая приятная.
Нашему меняющемуся миру все это уже очень не соответствует. В современных офисах человек может сесть, например, на пол и поработать там. И он не менее продуктивен, чем другие. Или люди могут работать в кафе, на улице.
Получается, что детей мы ограничиваем жесткими рамками, которые потом помешают им быть успешными. Что обеспечивает человеку успех? Умение работать в команде, искать информацию, представлять свою работу. У нас школа сейчас на это не направлена. И я думаю, она должна меняться. Должны появиться какие-то проектные методы: «Так, ребята, мы сегодня делаем вот это. Разбиваемся на пять групп. Каждая группа делает вот это. В конце урока собираем» — вот что похоже на жизнь.

— Почему важно оставить родителям право выбора формата обучения?
— Я считаю, что родители гораздо больше понимают своих детей. Да, мы специалисты: учились, повышали квалификацию, у нас большой опыт. Но часто родитель знает лучше, что для его ребенка хорошо.
Ему потом с этим ребенком, который приходит из школы и ненавидит весь мир, жить. Или ему жить с ребенком, который счастлив ходить в школу. Без сомнения, такие решения должны принимать родители.
Мне кажется, если будет наоборот, получится история из советского прошлого. Чьи дети? Все дети принадлежат государству. С раннего возраста забираем их в ясли, сады, школу. Но дети — родительские. И это надо принимать.
Родители покупают наши образовательные услуги. Выбирают они, а их дети, семья получают услуги. Значит, нужно работать, обслуживать и не выпендриваться. Не надо у родителей забирать право воспитывать собственных детей.
Материалы, которые помогут родителям сохранить бюджет и рассудок, — в нашем телеграм-канале @t_dety